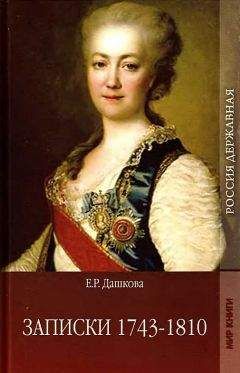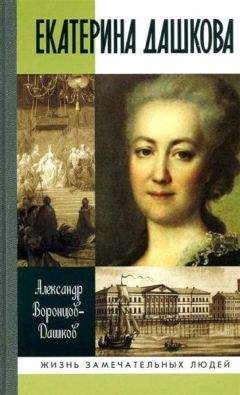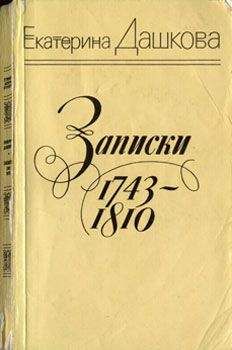Это снисходительная улыбка старшего. Дидро быстро распознал непоследовательность взглядов русской княгини: и некоторую нечеткость ее конституционно-монархических идеалов, и противоречивость ее отношения к Екатерине, в котором переплелись восхищение и разочарование.
Но жизненная позиция Дашковой, ее нравственный облик, ее личность импонировали Дидро. Его восхитили твердость ее характера «как в ненависти, так и в дружбе», мужество, с которым она переносила свою «темную и бедную жизнь» (философ здесь несколько сгустил краски), естественность ее поведения, «решительное отвращение к светской жеманности». Ему запомнилась даже антипатия, которую Дашкова почувствовала к борцу за свободу Корсики – Паоли, когда, встретившись с ним в Лондоне, узнала, что он живет «нахлебником и пансионером двора» («...она выразилась: «Бедность есть лучший пьедестал подобного ему человека». Я вполне понимаю ее мысль...»).
Знакомство с Дашковой сыграло, должно быть, не последнюю роль в решении философа посетить давно уже интересовавшую его Россию.
А как рассказала о парижских встречах 1770 г. сама Дашкова?
В «Записках» есть страницы, не раз привлекавшие особое внимание и первых их читателей, и современных исследователей. Те, где Екатерина Романовна излагает свои разговоры с Дидро о крепостничестве.
«Однажды разговор коснулся рабства наших крестьян5.
– У меня душа не деспотична... вы можете мне верить. Я установила в моем орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограблений и притеснения мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы, следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов...
– Но вы не можете отрицать, княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче.
– Если бы самодержец, – ответила я, – разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиком, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своею кровью подписалась бы под этой мерой. Впрочем, простите мне, если я вам скажу, что вы спутали следствия с причинами. Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, т[ак] к[ак] они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушат порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления.
– Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили...»
Однако прервем ненадолго этот диалог, чтобы вспомнить эпизод, происшедший за несколько лет до парижской встречи русской княгини и французского философа.
1 ноября 1766 г. в Вольное экономическое общество поступило щедрое пожертвование: неизвестная особа передавала Обществу «на такое употребление, какое оно заблагорассудит», тысячу червонцев.
Вольное экономическое общество, основанное в 1765 г. для «исправления земледелия и домоводства», как определено было в учредительном указе, находилось под особым покровительством Екатерины. Состояли в нем наиболее влиятельные придворные, главным действующим лицом был Григорий Орлов. Дашкова также являлась членом Общества.
В письме, сопровождавшем анонимное пожертвование (кстати сказать, императрица предлагала дарителю две тысячи взамен его одной, если только он откроется, о чем было объявлено в четвертой части «Трудов к поощрению в России земледелия и домостроительства» и в некоторых иностранных газетах), рекомендовалось обсудить вопрос о «поземельной собственности» крестьян – крепостной зависимости.
Экономическое общество решило объявить конкурс на лучшее сочинение на тему: «Что полезнее для общества: чтоб крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны?»6.
Не следует забывать, что дело происходило в либеральную пору екатерининского царствования: 1767 год, Когда предполагалось подвести итог упомянутого конкурса, был годом собрания «депутатов всех сословий» (ни к чему, как известно, не приведшего). Шло следствие по делу кровавой барыни Салтычихи, которая своими злодействами над крепостными людьми ужаснула XVIII столетие. Существует предположение, что именно дело Салтычихи и послужило одним из поводов предложить Экономическому обществу публично обсудить вопрос о крепостном праве в России7.
Премию (сто червонцев) и золотую медаль получил Беарде Де Лабей, член Дижонской академии. Сочинение Де Лабея было представлено под девизом «В пользу свободы вопиют все права, но есть мера всему». Обрисовав ужасы рабства и блага свободы, автор сделал вполне благонамеренный вывод: «Должно приуготовить рабов к принятию вольности прежде, нежели будет им дана какая собственность»8
Аргументация Дашковой в полемике с Дидро напоминает, увы, «делабейевскую», т.е. официозную в ту пору, точку зрения. И все же не сводится к ней. В словах Дашковой о «звеньях, приковывающих» звучат убежденность в необходимости либерализации жизни общества и недвусмысленные намеки па необходимость ограничения власти самодержавия.
Убежденность в преимуществах конституционной монархии никогда не покидала Дашкову, составляла одну из «констант» ее мировосприятия. Потому не столь уж существенно, высказала ли она свою точку зрения во время встречи с Дидро, за три года до начала Крестьянской войны 1773...1775 гг. в России, или привнесла ее задним числом в свои воспоминания. Важней другое: между Дашковой и Дидро шел спор, выявивший чрезвычайно существенные расхождения касательно «рабства дикого», крепостного права. Долгие годы суждено было отношению к этому вопросу служить водоразделом, отделявшим подлинную революционность от разных вариантов либерализма.
Сцена спора с Дидро в «Записках» Дашковой завершается ее победой. «Боюсь, что я не сумею ясно выразить свою мысль, но я много думала над этим, – продолжает Дашкова, – и мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон глубокой пропастью; лишенный зрения, он не знал опасностей своего положения: и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит злосчастный глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не есть и не поет больше; его пугают окружающая пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния.