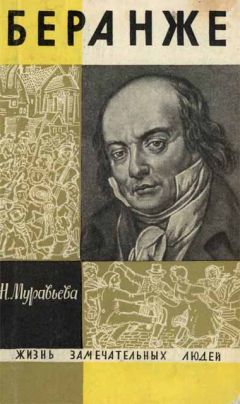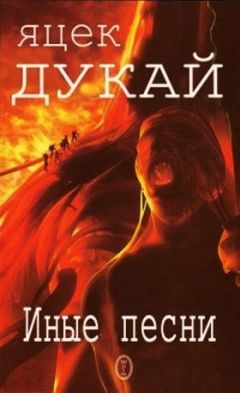Он подходит к столу, ворошит рукописи. Поэмы, пасторали, идиллии (песен он не записывает, они роятся в голове, но всерьез он работает только над «высокими» жанрами). Сколько напряженных часов, дней, месяцев ушло на сочинение, обработку, переписку двух эпических поэм «Потоп» и «Восстановление культа»! Трудно счесть. И все же — он прекрасно понимает это — обе его поэмы, хоть они и вымерены и отшлифованы и как будто отвечают всем правилам и требованиям поэтики, чрезвычайно далеки от совершенства… Но, может быть, в них теплится хоть искорка таланта? Кто же разглядит ее, кто поддержит? Рискнет ли хоть один издатель вынуть из кармана деньги, чтоб напечатать стихи безвестного начинающего поэта? Гордость не позволяет ему становиться в позу просителя, околачиваться у дверей влиятельных лиц, пытаясь заинтересовать их своей персоной и своими стихами. Он просто возьмет свои поэмы, запечатает их в конверт и, сопроводив небольшим письмом, пошлет… Кому же? Он сидит, охватив голову руками. Потом решительно берет перо и пишет на конверте: «Сенатору Люсьену Бонапарту».
Младший брат первого консула известен не только как политический деятель и красноречивый оратор, но и как покровитель изящных искусств. Он и сам пописывает. В 1799 году вышел его роман под живописным заглавием «Индейское племя, или Эдуард и Стеллина», сочиняет он и стихи. И что больше всего привлекает Беранже, младший Бонапарат слывет убежденным республиканцем.
Люсьен Бонапарт выдвинулся на политическом поприще еще в ранней молодости, при Директории. В 1798 году двадцатитрехлетний политик занял высокий пост — стал президентом Совета пятисот. Республиканские убеждения, однако, не помешали ему помочь старшему брату в совершении переворота 18 брюмера.
В критическую минуту именно председатель Совета пятисот отдал войскам приказ разогнать непокорных депутатов, которые не пошли навстречу притязаниям Наполеона. А потом, когда депутаты разбежались кто куда, Люсьен по совету Наполеона велел организовать за ними погоню, и солдаты буквально за шиворот притащили перепуганное меньшинство Совета, которое после таких передряг немедленно проголосовало за принятие новой конституции.
Захватив власть, первый консул продолжал выдвигать младшего брата. Но, к досаде и удивлению Наполеона, Люсьен оказался гораздо более норовистым, чем другие его братья. Он то и дело перечил, фрондировал и продолжал твердить о своей преданности республике (после того как сам же помог Наполеону вцепиться ей в горло!).
Этот упрямец собственными руками портил свою карьеру, выкидывая неожиданные фортели. Женился, не посоветовавшись с первым консулом, не спросив его разрешения. И на ком же? На вдове биржевого маклера. По любви. Но ведь он прекрасно знал, что Наполеон собирался сочетать его с принцессой крови и посадить на какой-нибудь из тронов Европы. Нет. Люсьен определенно срывал политические планы старшего брата и не выказывал никакого желания «образумиться», развестись со своей маклершей.
Наполеон гневается, а Люсьен стоит на своем!
* * *
Вот уже два дня прошло, как Пьер Жан послал сенатору по почте свои поэмы. Придет ли когда-нибудь ответ? Пока что Беранже никому не говорит об этой попытке. Жюдит и та ничего не знает.
Январский вечер. В маленькой комнатке Жюдит тепло и уютно. Потрескивают дрова в камине. Беранже задумчиво всматривается в язычки пламени, а Жюдит раскладывает на столе карты, искоса поглядывая на своего друга. Чем он так взволнован? Что у него на душе?
— Слушай, да послушай же, наконец, что я тебе скажу!
Он не верит в карточные гаданья и все-таки с улыбкой прислушивается к ее словам:
— Письмо! Ты получишь письмо, и оно принесет тебе радость! — шутливо-торжественным тоном возвещает Жюдит. — Интересно знать, сударь, от кого вы ждете письмеца! — грозит она ему тонким пальцем, исколотым иголкой.
Ну, конечно, Жюдит хочет ободрить его. Карты ведь постоянно предвещают письмо, дорогу или исполнение желаний; жаль, что редко предсказания эти совпадают с тем, что ждет тебя в жизни! И все-таки от звонкого голоса Жюдит, от ее смеха на душе у Пьера Жана становится веселее. Жюдит прямо-таки волшебница.
Наутро, проснувшись в своей мансарде, он, как всегда, осматривает башмаки и панталоны. Новые дыры! Придется взяться за иглу, благо что он, внук портного, знает, как обращаться с ней. За починкой он складывает стихи. Строки выходят какие-то унылые, мрачные… Вдруг дверь открывается, и привратница протягивает ему конверт, надписанный незнакомым почерком.
«Стихи, иголка, панталоны — все разом исчезло. Я был так взволнован, что не смел распечатать письмо… Наконец трепещущей рукой ломаю печать: сенатор Люсьен Бонапарт прочел мои стихи и желает меня видеть».
Скорей, скорей одеться — и на прием к сенатору! И тут снова перед глазами возникают игла и не-дочиненные дыры на панталонах. Что надеть? Нельзя же появиться во дворце оборванцем!
В костюме с чужого плеча, взятом напрокат у старьевщика, Беранже появляется в приемной сенатора.
Люсьен Бонапарт, человек небольшого роста, с энергичным лицом, слегка напоминает по внешности первого консула. Только нет той четкости профиля, гой непроницаемости взгляда. Движением руки сенатор приглашает Беранже присесть.
Да, да, он прочел обе поэмы. Эпическая поэма — это как раз тот жанр, который нужен для героического времени. Пусть господин Беранже и дальше совершенствует свое перо в высоких жанрах. Как отнесется он, например, к теме «Смерть Нерона»? Читал ли он древних? О, изучение античных классиков необходимо для молодого поэта. Именно здесь следует искать образцы для подражания. Не так ли?
Беранже краснеет и бледнеет. До чего же трудно ему сознаться перед сенатором в том, что он читал Гомера и Аристотеля, Вергилия и Ювенала только в переводах, но не изучал ни латыни, ни греческого! Кажется, признать себя виновным в каком-нибудь тяжком преступлении и то было бы легче.
Под конец беседы сенатор обещает поэту позаботиться о его судьбе.
Беранже выходит из приемной, окрыленный надеждами, хоть он и смущен своим незнанием латыни и немного ошарашен заданной темой. Сказать по совести, его совсем не тянет погружаться в переживания коронованного лицедея, прославившегося в веках своими мерзостями, и разглагольствовать обо всем этом в высоком стиле. Муза его явно противится тому, чтоб ее рядили в античную тогу.
Вскоре Беранже получил еще одно письмо от Люсьена Бонапарта, на этот раз не из Парижа, а из Рима. В письме была доверенность на получение жалованья академика, которым мосье Люсьен не пользовался со дня своего избрания в члены Французского института. За три года накопилась порядочная сумма — три тысячи франков. Право получения жалованья (тысяча франков в год) по доверенности передавалось Беранже и на будущее.