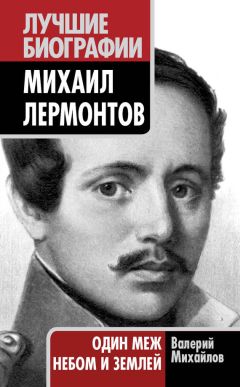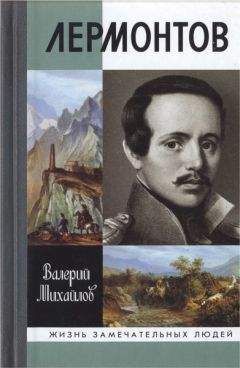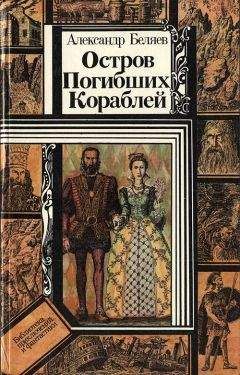Теперь уже не боязнь полного забвения и вечности, где ничто не успокоит, как в «Ночи. I», терзает его, но — «отчаянье бессмертия». — И вновь, «жестокого свидетель разрушенья», он дико проклинает и отца, и мать, и всех людей, и ропщет на Творца, «Страшась молиться»:
И я хотел изречь хулы на небо,
Хотел сказать…
Но замер голос мой, и я проснулся.
Снова замирает голос, снова настоящее пробужденье от страшных сновидений избавляет его от хулы на небо.
8
По сути, это третье стихотворение о смерти — переработанная «Ночь. I», хотя кое-что взято и из «Ночи. II». И тут стоит приглядеться, что исключил поэт из исходного стихотворения, что оставил неизменным и что дописал нового.
Исчез «светозарный ангел», который посылал созерцателя собственной смерти на землю — в наказанье за его грехи. «Молись — страдай… и выстрадай прощенье…», напутствовал ангел, в ожидании грядущего суда Спасителя… Вместо ангела с его речами появляется книга, где написан жребий, — впрочем, тот же самый: возвратиться на землю.
Жуткие подробности разрушения плоти в могиле значительно сокращены, — выросло чувство меры: как художник, Лермонтов растет богатырски, не по годам, а по часам.
Но главное остается: проклятия рождению, и родителям, и всем на земле. Ключевая строка — «Я на творца роптал, страшась молиться» (как в «Ночи. II») — неизменна.
Что же за хулы сновидец хочет изречь на небо? — Понятно, они были бы направлены Творцу. Не оттого ли молитва нейдет с уст, и более того — страшит?..
Судя по «ночным» стихотворениям и — о смерти, очевидно, что, «жестокого свидетель разрушенья», поэт не находит ни в Творце, ни в Его творении на земле — добра.
Д. Мережковский заметил, что Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле.
«Пушкин почти не касался этого вопроса. Трагедия зла разрешалась для него примирением эстетическим. Когда же случилось ему однажды откликнуться и на вопрос о зле, как на все откликался он, подобно «эху» —
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты нам дана? —
то, вместо религиозного ответа, удовольствовался он плоскими стишками известного сочинителя православного катехизиса, митрополита Филарета, которому написал свое знаменитое послание:
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
А. И. Тургенев описывает, минута за минутой, предсмертные страдания Пушкина: «ночью он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. — Теперь (в полдень) я опять входил к нему; он страдает, повторяя: «Боже мой, Боже мой! что это?..» И сжимает кулаки в конвульсии».
Вот в эти-то страшные минуты не утолило бы Пушкина примирение эстетическое; православная же казенщина митрополита Филарета показалась бы ему не «арфою серафима», а шарманкою, вдруг заигравшею под окном во время агонии.
«Боже мой, Боже мой! что это?» — с этим вопросом, который явился у Пушкина только в минуту смерти, Лермонтов прожил всю жизнь.
Почему, зачем, откуда зло? Если есть Бог, то как может быть зло? Если есть зло, то как может быть Бог?»
Оставим на совести Мережковского его догадки о предсмертных мыслях Пушкина, равно как и непозволительное сравнение агонии Пушкина с обыденной жизнью Лермонтова, — но «детский» свой вопрос он в принципе ставит верно. Не эти ли, в самом деле, слова, готовые вырваться, замирают на устах лермонтовского сновидца — и только пробужденье его спасает от хулы на небо?..
«Вопрос о зле связан с глубочайшим вопросом теодиции, оправдания Бога человеком, состязания человека с Богом», — подчеркивает Мережковский.
Вернемся к этому позже, а пока отметим одно: в глубоких своих юношеских думах о смерти Лермонтов уже вплотную подходит к тому, чтобы напрямую поставить этот вопрос в своем творчестве.
В стихии слова — под магией видения
1
Мережковский, как и Розанов, считает материю Лермонтова высшей, не нашей, не земной. В мистическом толковании этой материи он, в отличие от философа, не ограничивается общими определениями, а представляет в подробностях свой взгляд и, как ему, наверное, казалось, с доказательствами, чему служат и легенды, и стихи Лермонтова, и воспоминания о нем.
«Произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Дракона; и Дракон и ангелы его воевали против них; но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон».
Существует древняя, вероятно, гностического происхождения, легенда, упоминаемая Данте в Божественной Комедии, об отношении земного мира к этой небесной войне. Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения; но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмою, благость Божья посылает в мир, чтобы могли они сделать во времени выбор, не сделанный в вечности. Эти ангелы — души людей рождающихся. Та же благость скрывает от них прошлую вечность, для того, чтобы раздвоение, колебание воли в вечности прошлой не предрешало того уклона воли во времени, от которого зависит спасенье или погибель их в вечности будущей. Вот почему так естественно мы думаем о том, что будет с нами после смерти, и не умеем, не можем, не хотим думать о том, что было до рождения. Нам дано забыть откуда, — для того чтобы яснее помнить куда.
Таков общий закон мистического опыта. Исключения из него редки, редки те души, для которых поднялся угол страшной завесы, скрывающей тайну премирную. Одна из таких душ — Лермонтов».
Тайна премирная — это тайна высшего мира, горняя, небесная.
По Мережковскому, душе Лермонтова свойственно чувство незапамятной давности, древности; воспоминания земного прошлого сливаются у него с воспоминаниями прошлой вечности, таинственные сумерки детства — с еще более таинственным всполохом иного бытия, того, что было до рождения. «На дне всех эмпирических мук его — …метафизическая мука — неутолимая жажда забвенья». Не что иное, как опыт вечности, определяет в такой душе ее взгляд на мир. Земные песни ей кажутся скучными, жизнь — пустой и глупой шуткой, да и сам мир— жалким. Зная все, что было в вечности, такая душа провидит и то, что с ней произойдет во времени. Отсюда — и видения будущего, и пророчества. «Это «воспоминание будущего», воспоминание прошлой вечности кидает на всю его жизнь чудесный и страшный отблеск: так иногда последний луч заката из-под нависших туч освещает вдруг небо и землю неестественным заревом».