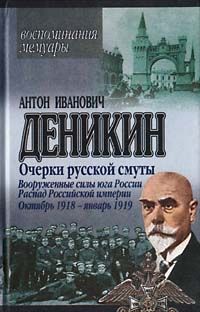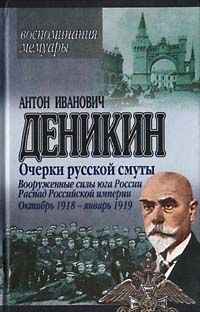Но все это были партизаны, рожденные безвременьем и чуждые традиций промышленного класса.
Крупная торгово-промышленная знать появилась на территории армии главным образом после падения Одессы и Харькова в начале 1919 года. Многие лица из ее рядов успели вынести с пожарища русской храмины часть своих достатков, сохранили еще кредит, а главное — организационный опыт в широком государственном масштабе. Мы ожидали от них помощи и прежде всего в отношении армий. Эта помощь была предложена действительно, но в такой своеобразной форме, что на ней стоит остановиться…
14 сентября 1919 года между донским правительством в лице начальника отдела торговли и промышленности Бондырева и «Товариществом Мопит»[65] был заключен договор на поставку Донской армии и населению заграничной мануфактуры. «Мопит» являлся комиссионером казны, взяв на себя «при всемерном содействии Войска Донского»[66] на территории Дона и без ведома командования на территории Добровольческой армии скупку сырья, отправление и продажу его за границей, покупку там и доставку на Дон мануфактуры. Основной капитал для оборота, в общем до миллиарда рублей, должен был выдаваться донской казной по частям авансом; все решительно расходы; как-то: провоз, хранение, пошлины и т. п., ложились на казну. «Мопит» за услугу Донской армии брал себе в качестве «организационных расходов» и предпринимательской прибыли за покупку сырья 19 процентов и за операцию с мануфактурой 18 процентов. Весь договор был полон неясностей и недомолвок, позволявших при желании значительно расширять размеры прибыли. Но самое странное было то, что статьи договора ставили выполнение его в зависимость от доброй воли «Мопита», предоставляя ему возможность воспользоваться самому всеми выгодами реализации драгоценного и купленного сравнительно за бесценок донского сырья. Статья 9-я гласила:
«Если полученные товариществом авансы не будут по вывозе сырья за границу и его реализации покрыты поставками товаров или вырученной от продажи сырья валютой в обусловленный срок, то товарищество обязуется возвратить Войску полученные авансы, с начислением процентов со дня просрочки в размере взимаемых Государственным банком по учету векселей…»
И только.
С договором этим я ознакомился из газет. Я не имел права вмешиваться во внутренние дела суверенного Дона, но так как весь экспорт регулировался «Особым совещанием» и выполнение поставок на Донскую армию договором обеспечено не было, я приказал выдачу «Товариществу» разрешения на вывоз сырья и хлеба за границу прекратить. Особая комиссия рассмотрела затем договор, и после разъяснений его статей учредителями и видоизменения «Особое совещание» сочло возможным допустить деятельность «Мопита».
А. В. Кривошеин, объясняя свое участие в «Мопите», жаловался мне[67] на «газетные инсинуации» и утверждал, что учредители его преследовали цели исключительно государственные, а лично он «с содержанием злополучного договора познакомился впервые, когда начался уже газетный поход». «Учредители «Мопита», — писал он, — обширная группа издавна пользующихся уважением и всероссийской известностью москвичей, обратилась ко мне с предложением избрать меня председателем совета, придавая этому политическое значение, как лишней возможности объединить их на общей платформе сейчас и особенно в виду предстоящего прихода в Москву. Мысль — основать здесь крупное московское дело и таким образом теснее сплотить черноземный юг с промышленной Москвой — казалась правильной и своевременной…»
Но общество, взволнованное этим делом, видело в нем только коммерцию, а не политику. Часть прессы чрезвычайно резко ополчилась против «мопитян», которых вины наиболее умеренный в своих заключениях «Приазовский край»[68] определял такими словами: «…В договоре нет элементов заведомого обмана или заведомого введения в невыгодную сделку… Тяжелая сторона ее заключается в том, что и именитые москвичи также являются одними из многих, наживающихся на армии, на гражданской войне…» Как бы то ни было, и печать, и общество, и армия постепенно пришли к одинаковому заключению.
Нет больше Мининых! И армия дралась в условиях тяжелых и роптала только тогда, когда враг одолевал и приходилось отступать.
Казна наша пустовала по-прежнему, и содержание добровольцев поэтому было положительно нищенским. Установленное еще в феврале 1918 года, оно составляло в месяц для солдат (мобилизованных) 30 рублей, для офицеров от прапорщика до главнокомандующего в пределах от 270 до 1000 рублей[69]. Для того, чтобы представить себе реальную ценность этих цифр, нужно принять во внимание, что прожиточный минимум для рабочего в ноябре 1918 года был определен советом екатеринодарских профессиональных союзов в 660–780 рублей; Дважды потом, в конце 1918-го и в конце 1919 года, путем крайнего напряжения шкала основного офицерского содержания подымалась, соответственно на 450-3000 рублей и 700-5000 рублей, никогда не достигая соответствия с быстро растущей дороговизной жизни. Каждый раз, когда отдавался приказ об увеличении содержания[70], на другой же день рынок отвечал таким повышением цен, которое поглощало все прибавки. Одинокий офицер и солдат на фронте ели из общего котла и, хоть плохо, но были одеты. Все же офицерские семьи и большая нефронтовая часть офицерства штабов и учреждений бедствовали. Рядом приказов устраивались прибавки на семью и дороговизну, но все это были лишь паллиативы. Единственным радикальным средством помочь семьям и тем поднять моральное состояние их глав на фронте был бы переход на натуральное довольствие. Но то, что могла сделать Советская власть большевистскими приемами социализации, продразверстки и повальных реквизиций, было для нас невозможно, тем более, в областях автономных.
Только в мае 1919 года удалось провести пенсионное обеспечение чинов военного ведомства и семейств умерших и убитых офицеров и солдат. До этого выдавалось лишь ничтожное единовременное пособие в 1.5 тысячи рублей…
От союзников, вопреки установившемуся мнению, мы не получили ни копейки.
Богатая Кубань и владевший печатным станком Дон были в несколько лучших условиях.
«По политическим соображениям», без сношения с главным командованием они устанавливали содержание своих военнослужащих всегда по нормам выше наших, вызывая тем неудовольствие в добровольцах[71]. Тем более, что донцы и кубанцы были у себя дома, связанные с ним тысячью нитей — кровно, морально, материально, хозяйственно. Российские же добровольцы, покидая пределы советской досягаемости, в большинстве становились бездомными и нищими.