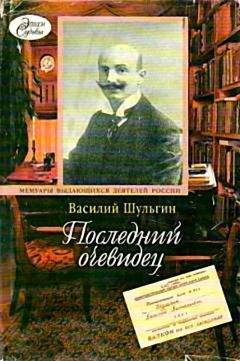— Оставайтесь при роте, — приказал командир Иванову, обернувшись на ходу.
Иванов остался на месте. На него вдруг нашло каменное хладнокровие, которое, Бог весть откуда, овладевало им в решительные минуты… Он медленно и спокойно пошел вдоль фронта, внимательно всматриваясь в лица… Рота неподвижно застыла с винтовками к ноге… Ни в одних глазах Иванов не прочел враждебности, но почти во всех светилась тревога и беспомощность… Взгляды то приковываются к нему, как бы ища и прося поддержки, то перебегают на ворота, за которыми слышатся смутные крики, но еще ничего не видно, потому что рота выстроена наискось от них… Многие побледнели… Взводный первого взвода Полещук, который стоит на правом фланге, вытянув голову с изменившимся позеленевшим лицом, не отрываясь, смотрит на ворота своими большими, мягкими глазами… Губы его что-то шепчут, и видно, как всего его трясет нервная дрожь… Около него, но не в строю твердо стоит фельдфебель Майданин… Лицо его пошло серыми пятнами, но весь он как-то закаменел, затвердел, и его зеленоватые глаза смотрят твердо и упрямо с умного лица, как бы говоря: «Нет! Как другие, я не знаю, а я — нет!»
Иванов прошел весь строй и, идя обратно, возможно спокойно, не повышая голоса, сказал как бы мимоходом:
— Не волнуйся, братцы, не робей… Стой твердо и помни службу… помни, что теперь вся Россия от нас зависит, потому что теперь всякая сволочь бунтует… Коли и мы еще забунтуем, пропала Россия… Конец ей…
Его слова как будто бы производят впечатление… В продолжение этой сцены, которая занимает несколько секунд, за воротами слышится дикий, раздражающий и жуткий крик толпы… Вдруг в воротах показывается беспорядочная, возбужденная толпа солдат, которая что-то кричит, машет руками и ружьями и хочет войти… подполковник и ротный задерживают их на мгновение, пробуют говорить, но их не слушают, оттирают, оттискивают от ворот, и толпа врывается во двор… Тогда командир роты поворачивается к своим, командует: «Смирно» — и, выхватив шашку, идет к роте… Рота исполняет приказание и стоит твердо… Но ворвавшиеся, беспорядочно махая ружьями, с криками: «Братцы, пойдем с нами, идем, братцы!» — направляются к левому флангу… Иванов инстинктивно бросается им наперерез, чтобы не допустить их до строя, не соображая, что надо приказать действовать роте, а не бежать самому, и на ходу так же инстинктивно вытаскивает шашку до половины… В то же мгновение к нему бросаются несколько человек со штыками наперевес, с криками: «Ваше благородие, зачем шашку? Спрячьте шашку, мы ничего не делаем, никого не трогаем, спрячьте шашку!..»
Воспоминание об этом роковом моменте опять болью сжимает сердце Иванову… Но он пересиливает себя и заставляет не думать больше, потому что это только что решено и выяснено… И все-таки он думал… Нет, он не струсил… по крайней мере, с чистым сердцем, докопавшись до самого дна своих ощущений, он не может вспомнить ощущений страха… Но их совокупная воля в течение этой короткой мимической сцены, в течение этих нескольких мгновений, когда они стояли друг против друга, он — с полувытащенной шашкой, они — со штыками — их совокупная воля, их полупросьба, полуубеждение, полуугроза, вылившаяся в этом крике: «Зачем шашку?», — оказалась сильнее его первого, почти инстинктивного движения, не поддержанного твердым и давно созданным убеждением, что так именно и нужно поступать, не поддержанного и со стороны… Наоборот, в это мгновение кто-то на этом самом левом фланге, который он защищал, кто-то за его спиной крикнул: «Братцы, за мной!» и бросился к бунтовщикам, увлекая за собою других… В то же мгновение со всех сторон раскрылись окна полукруглой казармы, и оттуда грянуло «ура» и другие радостные крики (это кричали солдаты, оставшиеся в казармах), и тотчас же за спиной роты грянули звуки труб, на двор хлынула музыкальная команда с первыми тактами «Марсельезы». Иванов невольно обернулся, увидел, что рота дрогнула, смешалась, правый фланг еще стоял, но левый и середина уже перемешались с бунтовщиками, которые выталкивали растерянных, испуганных солдат из рядов, командир роты спрятал шашку и что-то беспомощно говорил. Иванов почувствовал, что момент потерян, силой уже ничего нельзя сделать — и тоже втолкнул шашку в ножны. Он опять чуть не застонал… О, зачем он это сделал, зачем он не выхватил ее и не рубил, его бы убили, вероятно, но ведь так надо было поступить, он должен был так поступить… И опять ему пришлось сдержать себя, пересилить: что сделано, то сделано — будет об этом… Потом сразу наступила каша… Двор наполнился сотнями кричащих, шумящих, убеждающих и спорящих солдат, среди которых нельзя было уже хорошо отличить своих от ворвавшихся… Однако Иванов ясно видел, что многие упираются, не хотят идти, стараются вырваться и отделаться от бунтовщиков, которые набрасываются по нескольку человек на одного и силой увлекают к воротам… Офицеры как-то невольно очутились вместе (их было трое) перед дверьми казармы в помещении роты, и вокруг них и в дверях быстро собралась кучка, которой удалось отбиться от понтонеров и которая жалась к офицерам… Около самых дверей, облокотившись о стену, стоял Полещук, бледный как полотно, и шептал что-то побелевшими губами…
— Ваше благородие, дозвольте мне уйти, — вдруг проговорил он с трудом. — Нехорошо мне…
Командир роты жестом отпускает его.
— Пропала Россия, — шепчет кто-то около Иванова, видно, ему запомнились эти слова, и он повторял их, но Иванов не мог видеть, кто это сказал… Майданин по-прежнему стоит твердо, сбоку своего ротного командира, и твердые глаза его говорят: «Нет! Как другие — я не знаю, а я — нет!..»
Около него так же твердо стоит совсем молодой солдатик, небольшого роста, но коренастый, со здоровым, полным, некрасивым, но веселым лицом и живыми серыми глазами, светившимися и в эту минуту какой-то внутренней усмешкой… Он ни на шаг не отходил от фельдфебеля, точно прирос к нему… Вокруг шумит беспорядочная серая толпа, но офицеров не трогают, оставляя небольшой круг… Вдруг какой-то, особенно ярый, бросился к молодому солдатику.
— А ты что?.. Иди, иди… Ну! — убеждал он, толкая его и хватая за рукав…
Солдатик сердито дернул рукав и вырвался от него… Но ярый не унимался:
— Ну, чего ты к нему цепляешься? — вдруг сердится Майданин. — Видишь, не хочет, ну и оставь… Иди сам, если тебе нужно.
Тот бормочет какое-то ругательство, но властный тон фельдфебеля заставляет его уступить, и он замешивается в толпу… Меж тем кучка около дверей быстро растет, и скоро почти вся рота тут…
— По казематам! — вдруг неожиданно командует командир роты, и люди, только и жаждавшие как-нибудь спрятаться, мгновенно влились в двери… — Стройся в проходе! — скомандовал им вдогонку командир роты.