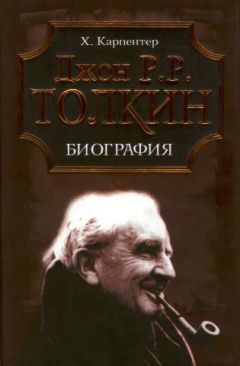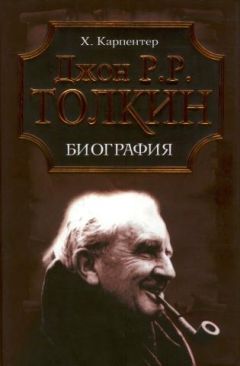И ошибся.
Михаил, пожилой, болезненный и кроткий, сумел найти в себе и силы и волю противостать курсу, на его взгляд, ошибочному и губительному – нездоровому интересу князя к сомнительной публике. В вопросах принципиальных митрополит оказался на удивление твёрд – и вновь пошли неудовольствия, прения и трения, в которых здоровье иерарха подорвалось окончательно… К началу 1821 года он сам увидел, что его дни земные сочтены; царя же рядом нет, он на конгрессе – и тогда Михаил отправил Александру в Лайбах откровенное письмо, где изложил свою позицию и опасения на счёт политики, проводимой министерством духовных дел. О самом Голицыне владыка отозвался с грустью – как о человеке, теологически неподготовленном и оттого легко впадающем в ереси… Письмо прозвучало духовным завещанием: император успел получить его, прочесть, а через две недели, там же, в Лайбахе, узнал о смерти митрополита Санкт-Петербургского.
Говорят, Александр серьёзно задумался над трудной для него правдой, облечённой в строки владыки Михаила [32, т.6, 391]. От Голицына, конечно, отказаться он не смог бы, как Данте не мог отказаться от Вергилия – слишком уж надёжной и привычной опорой государя был князь, и в придворной жизни, и в мире возвышенных исканий… но коррективы в ход действий внести было необходимо; царь это осознал. Ортодоксия церковной элиты оказалась значительно более твёрдой и неподатливой, чем это думалось императору и министру: оба они догадались, что за этим стоит сила настоящего убеждения, что следует быть поосторожнее и поаккуратнее, учли «конструктивную критику» и взяли необходимые меры.
Первой из них стало выдвижение на Санкт-Петербургскую кафедру митрополита Серафима (Глаголевского), человека на редкость тихого, смиренного, даже робкого; при том чрезвычайного консерватора, которого никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не сумел бы уличить в отступлении от сложившихся канонов и обрядов… Тем самым и Голицын и сам Александр надеялись закрыть себя от малейших подозрений и упрёков в ереси – и, в общем, тактически были правы.
Однако, это было даже не полдела. Главное – а оба они по-прежнему надеялись на возможность трансцендентного прорыва, должного воедино развеять тёмные заблуждения мира – так вот, главным здесь было найти особенного человека, и непременно безупречно-православного, чей мистический талант равен масштабу задачи.
Внятно определённая цель и безбрежная энергия отнюдь не являются гарантией эффективности поиска данной цели. Очень многое зависит также от умения верно ставить промежуточные задачи и выстраивать алгоритмы их решения. Иначе говоря, от методологии поиска. Какую методологию мог выработать князь Голицын, человек неглупый, оживлённый благой вестью – но, к прискорбию, круглый невежда в богословской специфике?.. Увы, результат поиска, как нельзя точно выражает дилетантскую природу устремлений князя. Министр нашёл того, кого нашёл. Не Серафима Саровского – в чём ни вины, ни беды Голицына нет, знал он или не знал о великом затворнике: тот ведь не мог до поры выйти из затвора… Но в том проблема, что пути-дороги привели князя и ни к кому иному из строгих подвижников, обретавшихся по Руси – к Авелю, например. А увидел он православного чудотворца в игумене Фотии, том самом бывшем – теперь уже бывшем – законоучителе из кадетского корпуса, а теперь настоятеле Сковородского монастыря. Очевидно, только в таком мистике как Фотий, мог узреть искомое такой мыслитель, как Голицын…
A propos: Фотий был на короткой ноге с настоятелем Саровского монастыря Нифонтом, прохладно относившимся к подчинённому ему монаху Серафиму: игумен Нифонт, очевидно, считал деяния подвижника странным и рискованным новшеством [5, 383]. Более чем вероятно, что подобным же образом отнёсся бы к ним и Фотий.
Любопытно: происхождением Фотий перекликается сразу и со Сперанским (по социальному происхождению) и с Аракчеевым (по месту рождения). Новгородец и сын сельского дьячка, Пётр Никитич Спасский (в миру) продлил стезю родителя, достигнув на ней куда больших успехов. Пробившись в столичную семинарию, он сумел закрепиться в столице; сложно говорить сейчас, как складывалось в детстве и юности воспитание и образование будущего архимандрита, но вряд ли стоит сомневаться в том, что его мистический талант был значительным. Возможно, он не уступал и дару Авеля (о Серафиме Саровском не говорим – иная категория…), но ясно, что с одним талантом не станешь праведником и пророком. Нужно ещё иное, возможно, вообще неопределимое в терминах обиходной рациональности: что и как должно сложиться, слиться в душе, чтобы она озарилась светом горнего мира?.. Это, конечно, особая тема; скажем лишь, что в Фотии, к сожалению, так не слилось. Но бывает, по выражению Набокова, что в тёмном человеке удивительно ярко и неожиданно, и непредсказуемо для него самого играет какой-то маленький фонарик – и зрелище случается диковинное, после чего разговоров хватает надолго. Нет никаких оснований думать, будто Фотий лгал или сочинял о посещавших его необыкновенных видениях: он должно быть, и в самом деле странствовал по границам миров, угадывал их отзвуки и отблески – душа его была чуткой, трепетной; может быть, слишком трепетной… Слишком чуткой душе, наверное, быть невозможно, а вот трепет… Для Фотия он был естественным, привычным состоянием, дарившим монаха грозными предчувствиями, о которых он неустанно «вопиял» – вопли эти отличались, как мы знаем, каким-то неестественным красноречием.
Исследователи либерально-позитивистского толка прямо и недружелюбно записывали архимандрита в сумасшедшие или, по крайней мере, в психопаты [13, 97]. Вообще-то, среднему позитивисту подозрительным кажется всё яркое и необычное, всё, что хоть как-то выходит за рамки… но в данном случае, возможно, истина не так уж далеко. Неистовый монах ходил по тонким, хрупким граням опасных бездн – они то обдавали его лютой стужей, то опаляли адским пламенем… а от этого трудно ожидать небесной ясности в душе.
Слава ревнителя веры и обличителя нечестия пришла к Фотию рано: ему было всего-то двадцать пять лет, когда он получил должность законоучителя. А вскоре молва пошла по столице – о молодом священнике, пылко-благочестивом и яростном, потрясающем сердца людские, подобно Савонароле… Это было в 1818-19 годах; Фотий сразу же явил себя крайним врагом всяческого «мистицизма», разумея под этим словом тогдашнюю идейную моду, исходившую от самого царя. Но Его величества, конечно, обличения не касались – а обрушился воин духа на масонов, квакеров, лжепророков вроде «Криднерши» и Татариновских чудаков, не слишком делая разницы между ними. В битву эту он ударился со всем огнём своей страстной натуры: бушевал, проклинал, устраивал сожжение еретических книг с торжественной анафемой… Воюя с врагами внешними, параллельно вёл жестокий бой и с внутренними: бесами, которые, чуя в нём опаснейшего противника, вторгались в пространство не физическое, но ментальное, в сны и видения монаха, то ужасая его чудовищностью дьявольских личин, то наоборот – являясь в виде прелестных ангелов, называли величайшим святым, способным совершить всё, что угодно, ласково говорили: «Сотворил бы ты, отче Фотий, некое чудо – перешёл бы по Неве, яко по суху» [44, т.3, 145]. Отче сражался с сатанинскими полчищами горячими молитвами и истязанием плоти: носил тяжкие вериги, постился так, что телесно являл собою обтянутый кожей скелет, трясся в ознобе даже летом; а после Великого поста вынужден был питаться в буквальном смысле крохами, чтобы усохший желудок постепенно восстанавливал свои функции… Так что, сокрушая бесов, правдоискатель более сокрушил себя самого, бесы же, увы, преследуют человечество и поныне.