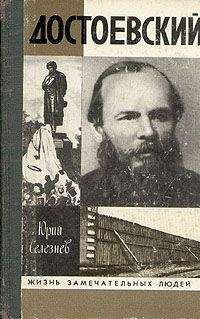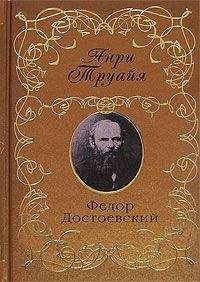И тогда его охватит вдруг одно странное, фантастическое соображение: а что, если б он жил, например, когда-нибудь прежде на Луне или Марсе и совершил бы там подлость, то, очутившись потом на Земле, где никто никогда во веки веков не узнал и не заподозрил бы даже о случившемся где-то там, то ему, лично ему, было бы стыдно за тот поступок здесь, на Земле? И если да, если то, что произошло где-то в неведомом там, равнозначно для человеческой совести тому, что могло бы произойти здесь, то... То ведь тогда и обратно — от бесчестного поступка, совершенного на Земле, — пусть никто не видел и никто никогда не узнает о нем — не скрыться нигде, во всей бесконечной вселенной. И потому любой ваш поступок и даже мысль, побуждение имеют значение вселенского поступка, отражаются и в мирах иных, размышлял Достоевский.
И вот такой-то человек, задумавшись вдруг о страшной, потому что недоступной его человеческому разумению, тайне совести, застреливается, — во сне, конечно, — так размечтался, что и не заметил, как уснул.
И вот, перенесенный в мгновение ока через века и пространства, окажется он вдруг в неведомом мире — как бы двойнике нашей вселенной, среди какого-то чудесного Архипелага. Ласковое изумрудное море тихо плещется о берег, и он наконец видит людей. Они прекрасны и счастливы, как могут быть счастливы только дети в самые первые годы своей жизни на нашей Земле.
И вот он понимает наконец: перед ним иная Земля, но как бы и наша, но еще не оскверненная грехопадением. И он живет теперь в этом раю и долго не понимает, как это он, испытавший там, на Земле, что такое ложь, разврат, искушения, он, знающий плоды разумного, научного, исторического прогресса, опередившего этих невинных жителей рая на многие тысячи лет, как он ухитрился до сих пор не открыть этим невинным счастливцам свои познания?
А они действительно живут какою-то влюбленностью друг в друга, недоступной его уму, но проникающей в его сердце, наполняющей его ощущением никогда не испытываемой прежде полноты бытия.
Но он-то знает, каким адом обернется в будущем этот их теперешний «рай», и это знание изъязвило его ум, и он в конце концов развратил их всех, как скверная трихина, как атом чумы...
И они научились лгать, и полюбили ложь, и познали красоту лжи. Они ужаснулись и стали разъединяться. Они стали злы и чем злее становились, тем больше говорили о гуманизме, они сделались преступны, но только и твердили о справедливости, а чтобы обеспечить ее — придумали гильотину.
Они не жалели о случившемся: пусть мы лживы и злы, но зато теперь мы обладаем знанием! Они, развращенные им, благодарили его, молились на него как на бога, ибо он открыл им знание. Он умолял их убить его, забыть о нем, они оправдывали его, и тогда такая ни с чем не сравнимая скорбь нашла на него, что он... проснулся. Увидел рядом на столе револьвер — и все вспомнил: свое «все равно», давешнюю девочку...
Нет, теперь — жизни и жизни! И проповеди. Да, теперь он пойдет проповедовать истину, ибо он видел ее и ее живой образ наполнил его душу: люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле...
«Да, я видел истину, и я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей: главное — люби других как себя и тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только старая истина... да ведь не ужились же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду...» — так и закончил Достоевский один из своих фантастических рассказов в «Дневнике писателя» — о тайне живой взаимосвязи души человеческой и души вселенной, данной нам в ощущении, называемом совестью. Совестью, страдающей страданиями всех, болеющей болями других. Если даже это боль за единственное страдающее дитя, в ней — вся суть вселенской истины. Деятельное сострадание — вот истина! И потому последняя мысль рассказа будет не общим, пусть и самым верным, рассуждением, но поступком:
«— А ту маленькую девочку я отыскал...»
«Сон смешного человека» — назвал он рассказ, потому что ведь это же ужасно смешно — почесть себя проповедником истины, которая... которая равноценна простой помощи несчастному ребенку, не правда ли?
Но Достоевский знал: лучшим умам человечества эта истина не представлялась смешной. Напротив. Сколько раз в трудные минуты жизни вспоминались ему всегда потрясавшие его душу слова французского мудреца Блеза Паскаля:
«Все тела, небесная твердь, звезды, земля и ее царства не стоят самого ничтожного из умов; ибо он знает все это и самого себя, а тела не знают ничего. Но все тела, вместе взятые, и все умы, взятые вместе, и все, что они сотворили, не стоят единого порыва милосердия — это явление несравненно более высокого порядка...»
Утром 28 декабря, услышав весть о том, что накануне вечером скончался Николай Алексеевич Некрасов, Достоевский почувствовал, как часто задрожала вдруг упершаяся в сухую, трудно дышавшую грудь его голова. Днем, успокоившись, пошел проститься с ним — поражало изможденное страданием лицо отошедшего. «Несть человек иже не согрешит», — читал над ним псалтырщик.
Дома, сам не заметил, как достал все три тома стихов скончавшегося да так и просидел над ними до шести утра — все тридцать лет промелькнувших вдруг со дня их первой встречи будто прожил снова и... «буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт во все эти 30 лет, занимал места в моей жизни, — рассказал он в «Дневнике» о пережитом в ту ночь. — Лично мы сходились мало и редко... Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди...».
На Новодевичьем кладбище собралось несколько тысяч человек — главным образом молодежь, произносились последние речи. Достоевский протиснулся к раскрытой могиле, забросанной цветами и венками, и слабым голосом произнес вслед за прочими несколько слов:
«— Это было раненное в самом начале жизни сердце, — начал он, — и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь...
Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом»... В этом смысле он... должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым...»
— «Выше, выше их», — выкрикнули из толпы44.
«— Не выше и не ниже, а вслед, — повторил Достоевский. — Сердцем своим, великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт...»
Газеты и журналы, откликнувшиеся на смерть поэта, немало писали в те дни — чрезвычайно своевременно, конечно! — о темных сторонах его личности — «стремлении к наживе», «двойничестве», «практичности...».