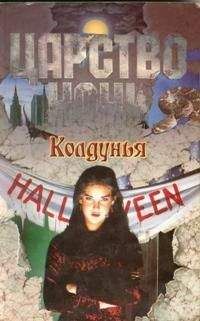Наиболее правильным мне кажется следующий критерий подневольного лагерного труда: тот труд, которым ты не причиняешь зла никому ни прямо, ни косвенно – допустим.
У религиозников в большинстве случаев не было колебаний, потому что у них не было выбора. В большинстве своем это были крестьяне, специалистов среди них были единицы. Я знал одного сектанта-часовщика. Он работал по своей специальности, чинил часы начальству и жил, как у Христа за пазухой. По этапам его не гоняли, но осуждать его не за что – он никому не причинял зла своим трудом.
Лагерь выявлял и усиливал в каждом его плюсы и минусы. Человек проходил строгую проверку: останешься ли ты честным человеком на изнурительной работе и голодном пайке или соблазнишься сытостью (весьма относительной) и продашься. Для человека, обладавшего нужной в лагере специальностью, проверка значительно облегчалась. Можно было не ездить на чужом горбу, но и не подыхать с голоду. Слесарь, кузнец, токарь, плановик, врач, портной, геолог, сапожник, часовщик, маркшейдер могли работать в лагере, как специалисты, независимо от своих убеждений. И нет никаких оснований упрекать их в том, что они поступились своими нравственными принципами, лишь бы "устроиться".
Проверку на честность проходят в лагере все заключенные без изъятия, но это проверка не по признаку специальности. Ведущий предмет лагерного нравственного экзамена – стукачество. Искусу стукачества подвергалась в основном пятьдесят восьмая статья, и я с полной уверенностью могу сказать, что в среде бывших членов партии стукачей было значительно меньше, чем, скажем, в среде бывших бендеровцев. А что до полицаев, старост, карателей, то там стукач на стукаче сидел. В своих тетрадях я поминаю Гнатюка, Воронова, Шудро – но, боже мой, сколько их еще было!
Выдумщики типа Шелеста и Дьякова в своих описаниях лагерей вообще избегают писать о стукачах – это весьма показательно. Зато они много пишут об "идейных коммунистах", выставляющих напоказ перед начальством свою идейность. А подлинно идейные коммунисты перед начальством не выслуживались. Именно такое полное достоинства поведение свидетельствовало – особенно в лагерных условиях – об идейности человека. Выдумки лагерных иконописцев просто нелепы. А Солженицын, опираясь на бредовые картинки Шелеста, делает из них далеко идущий вывод: "Не было ли письменной или хотя бы устной директивы коммунистов устраивать поприличней? Ортодоксы были у начальства на ближнем счету, составляли привилегированную прослойку".
На ближнем счету у начальства были согласно всему строю лагерей – тут и директивы никакой не требовалось – прежде всего стукачи. Стукачу давали поблажки всегда и во всех без исключения лагерях – на Севере, на Востоке, в Караганде и в самой Москве. Солженицын описывает как его самого вербовали в стукачи. Но и более грубые методы, надо полагать, применялись – и небезуспешно. Кого шантажировали, кого покупали за миску баланды.
Стукачи – группа неуловимая, что дает иконописцам лагерей вроде Дьякова и Шелеста формальную возможность не писать о них вовсе. Но тот, кто пишет о них, не вправе умалчивать, кто и за что получал в лагере послабления и привилегии.
На более легком режиме были в лагере во все времена бытовики вообще и блатные в особенности. Принципом Гулага было разделение заключенных на социально близких и социально неблизких. С первого своего дня советская пенитенциарная система строилась на посылке, что бытовики исправимы, а политические противники – нет. Потому-то вплоть до середины тридцатых годов политических не "перевоспитывали" трудом, а держали в особых тюрьмах-изоляторах или ссылали.
Во второй половине тридцатых годов политических заключенных расплодили так много, что их стало невозможно изолировать. Ссылать миллионы людей в малонаселенные местности было, вероятно, боязно – они превысили бы численностью местное население. Да и опыт высылки так называемого кулачества, в которое зачислили много миллионов крестьян, говорил не в пользу этого способа: высланные просто погибали до того, как государство успевало что-либо из них выжать. Лагерь же сулил несомненную пользу: прежде, чем лагерник подохнет, из него удастся кое-что выдавить. Вот и взялись увеличивать лагеря, воспитывая политических вместе с ворами – и с их, воров, действенной помощью.
Среди политических заключенных конца тридцатых и начала сороковых годов бывшие члены партии составляли весьма заметную, если не преобладающую группу. Почему же Солженицын пишет о них, как о "прослойке", да еще и "привилегированной"? В пятидесятых годах их действительно, оставалось в лагерях не так много. Но почему? Потому что лагерная машина уже смолола к тому времени чуть не миллион бывших партийцев (около миллиона было арестовано в тридцатых годах, а вернулись – 80 тысяч). В годы 1936–1940 всех КРТД, КРД и других, обвиненных по сходным статьям коммунистов, как правило, ставили только на тяжелую физическую работу (помните пометку ТФТ, т. е. "тяжелый физический труд"?). К тому времени, как Солженицын попал в лагерь, большая часть этих "привилегированных" уже покоилась в бесчисленных и безымянных лагерных могилах.
* * *
Все мы, пишущие о лагере, пытаемся провести какие-то нравственные рубежи между его обитателями. В нравственном смысле религиозники (повторяю, религиозники, а не просто верующие христиане) стояли выше всех – это неоспоримо. И объясняется это тем, что в их среде отбор происходил задолго до лагеря, при самом вступлении в преследуемую властями секту. С первых дней, с первых молитв эти люди знали, что им надо готовиться к кресту. С самого начала они сознавали себя гонимыми и неравноправными – и это требовало от них и сознательного мужества, и верности идее.
Если же посмотреть на противоположный, нижний конец нравственной лестницы, то все, побывавшие в лагере, думаю, сойдутся на том, что его занимали блатные. Блатные олицетворяют собою все, что есть самого низменного в человеке. Подлее блатного, мне кажется, быть невозможно. Для него нравственные нормы – ничто, а чужая личность – тьфу.
Но в послевоенном лагере имелась еще одна, довольно многочисленная группа, которую по нравственному уровню я не поставил бы много выше блатных. Это – бывшие гитлеровские прислужники, все эти полицаи, доносчики и каратели, сотрудничавшие с нацистами и более всего, с гестапо. Из них так и перло ненавистью: ненависть к коммунистам, ненависть к интеллигенции, ненависть к иноплеменникам и больше всего, конечно, к евреям. Эти бывшие нацистские помощники составляли в послевоенном лагере весьма и весьма весомую группу. Полицаи и старосты усвоили самый дух нацизма, что очевидно, дается с легкостью тем, кто заранее оглуплен, развращен и оскотинен. Неудивительно, что кум с успехом вербовал в их рядах множество стукачей. Процент стукачей – неплохое мерило нравственности.