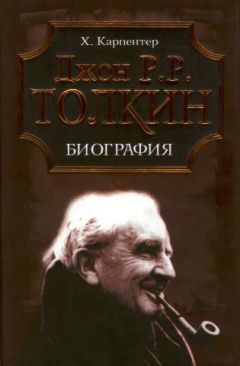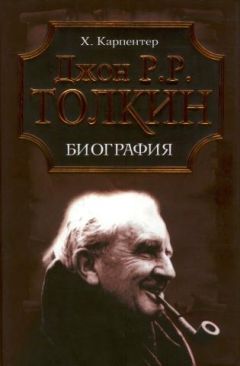И вот – 5 июня 1822 года. Каменноостровский дворец.
Александр жаждал восприять от гостя очередную порцию духовной свежести – и отчасти получил её, примерно так же, как некогда в беседе с Криднер. Правда, сам Фотий от такого сравнения пришёл бы в ужасный гнев (или в гневный ужас?..), да и сама аура свидания была совсем иной, чем в Гейдельберге в 1815-м – не слёзная грусть о грехах с последующим покаянием, а буйное, грозовое вскипание истин. Царь увидел, что пришедший к нему монах духовно пробуждён тем же самым, что и он, Александр – правдоискательством; только куда более мощно, решительно, горячо. И Александр поверил Фотию, увидел в нём наставника.
Император повергся перед гостем на колени, лобызал руки его – и просил совета. Что делать?! Что делать русскому царю, оказавшемуся в духовном тупике, в опаснейшем одиночестве?.. Ответ прозвучал тут же и без малейшего сомнения: «Противу тайных врагов тайно и нечаянно действуя, вдруг надобно открыто запретить и поступать» [5, 292].
Знал ли архимандрит о тайных обществах? Очень вероятно: через графиню Орлову он наверняка должен был быть в курсе тайн и полутайн бомонда. Но явно, что под «врагами» он разумел отнюдь не только заговорщиков в узком смысле: членов Северного и Южного обществ. Если Фотий и ведал об этих организациях, вряд ли он как-то особо выделял их из числа «тьмы сил вражьих», к чему причислял и масонов, и Библейское общество, и всевозможных сектантов, и даже архиепископа Филарета, которого невзлюбил до крайности. Вот на них всех и предложил провидец обрушить меч праведного царского гнева.
Наверное, Александр был несколько разочарован. От встречи с разрекламированным праведником можно было ожидать большего. Вполне можно допустить, что где-то в глубине души император надеялся увидеть чудо: преображение мира, хотя бы частичное; может быть, исходящий от гостя нетленный свет разлился бы по комнате…
Однако, ничего подобного не разлилось. В ответ на самые свои насущные запросы царь получил довольно банальные ответы. Опасность распространения тайных обществ он видел и без Фотия, и возможность обрушить на них тяжкую властную десницу у него была уже давно. Но он страшился рубить по живому; а Фотий ничуть не боялся такой радикальной хирургии: руби, царь! и будет ти благо, и нам вкупе – рецепт самый незатейливый, в котором Александру нетрудно было угадать рядовое социальное дилетантство.
Правда, он не мог не признать суровой действенности этих слов. Не мог не понимать, что если раньше были возможны какие-то паллиативные варианты, то теперь, в 1822 году, очевидно, не осталось никакого другого способа решить проблему, кроме как одним сильным ударом разгромить заговорщиков… понимал и всё-таки не хотел смириться с этим, и отчаянно и страстно желал какого-нибудь другого, мирного способа, его ждал и от Фотия: сотворит-таки отче Фотий «некое чудо»: мощным духовным полем преобразит вдруг ситуацию, и те, кто считают царя врагом, увидят, что никакой он им не враг, что всю жизнь он хотел только одного: сделать Россию счастливой. Наверное, того же хотят и они – но не понимают, не могут осознать, не прочувствовали ещё на себе, насколько это трудная, тяжкая, невероятно тяжкая работа! Так как же было Александру не жалеть прожектёров, не вспоминать себя самого времён отцова царствования и Негласного комитета… А значит, и не рубить сплеча, с горечью сознавая, что рубить надо себя, своё прошлое. Да, впрочем, Бог уж с ним, с прошлым! что было, то было. Стало то, что стало – вот ведь в чём беда… Но это ставшее, эта правда, эта сила, постигнутые, пережитые царём – почему это всё оказалось бессильным?! Почему то, что Александр одолел в себе, выросло вновь, как недополотый сорняк в сердцах других людей, других поколений – а время идёт, и подрастают новые поколения… И приходится признать, что этот сорняк злой, живучий, и вряд ли императору или кому другому удастся нащупать корень его.
Так ли это?..
Тем не менее, Александр Фотию поверил. Захотел, очень захотел поверить – это будет вернее. Энергия била из необычного гостя мощнейшими пучками квантов; пространство не просияло, но самый воздух в комнате словно вздрагивал от электричества – царь не мог этого не ощутить. И не подумать, что такой необычайный талант, пусть пока и не произведший чуда, сумеет произвести его в будущем… Следовательно, отец Фотий – ближайший духовный резерв; пусть будет всегда вблизи.
А тот с превеликою охотою внедрялся в высшие сферы – его предназначение исполнялось, как то и должно быть; он воспринимал происходящее с ним самым натуральнейшим образом: явился он в этот мир, чтобы наставлять царей – и мир послушно выполнил волю Отца небесного. Отец Фотий встал рядом с царями и наставляет их…
Не только Александра. Прослышав об удивительном священнике, заинтересовалась им Мария Фёдоровна.
Она вообще провела жизнь как бы в засаде, так и не дождавшись решительного броска. Сложная дворцовая обстановка научила её быть чрезвычайно осторожной дамой, по относительной молодости лет она ещё могла восклицать: «Я буду царствовать!..» – а потом уж этого себе не позволяла. Но и мыслей не оставляла, точнее, обстоятельства сами не давали мыслям остыть… Нет, было бы, наверное, слишком опрометчивым считать, что мать нечто замышляла против сына; однако, состояние его души, грустные разговоры, невнятица с престолонаследием – всё это потихоньку наводило вдовствующую императрицу на то, что и её час может пробить, а шестьдесят два года – для большой политики ещё не такая уж и осень. Бог наградил Марию Фёдоровну редкостным здоровьем, она и в этом возрасте смотрелась цветущей крепкой женщиной, даже на лошади верхом каталась с удовольствием… При таких условиях тактика «засады» может себя и оправдать.
Встреча Марии Фёдоровны с Фотием состоялась в августе и прошла в «тёплой, дружественной обстановке» – язык протокола в данном случае вполне уместен. Императрица и архимандрит отлично поняли друг друга: он словесно язвил именно тех, кого она терпеть не могла: Голицына, Александра Тургенева, Родиона Кошелева [5, 292], а богатая сокрушительными метафорами речь его должна была восхитить царицу, в русской грамматике нетвёрдую… Расстались совершенными друзьями.
Фотий умел быть мастером интриги: уже ведя вовсю тайную войну против Голицына, он внешне продолжал выказывать к нему расположение, даже приязнь, писал министру письма льстивого характера [70, т.3, 140]. Теперь, при таком-то положении и влиянии, архимандриту было как-то не по чину оставаться главой скромной обители – несмотря на то, что он всего полгода как её принял – и митрополит Серафим пролоббировал назначение Фотия настоятелем большого и славного Юрьевского монастыря (всё там же, в Новгородской губернии), главой коего не так уж давно был архиепископ Московский Филарет, ныне один из наиболее раздражавших Фотия людей… Вместе с назначением архимандрит получил личную награду и от императора: наперсный крест, украшенный алмазами.