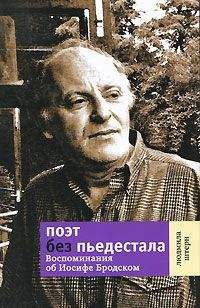– «Война и мир»? Не читал.
Думаю, и в самом деле не читал. Точнее: не дочитал. Да и кто этот кирпич одолел полностью, окромя спецов? А он и вообще не чтец был прозы. Ругать и хвалить имел обыкновение не читая, а в последние годы словари и энциклопедии предпочитал литературе. Схватывал на лету, с половины, а то и трети книги, до конца не дочитывал ни одну, предпочитал небольшие, разбитые на краткие главки: тех же Ренье и Мариенгофа, из современников – Довлатова.
Аксель Мунте и был как раз из породы раритетов, хотя когда-то «Легенда о Сан-Микеле», полная художественного – и нехудожественного – вымысла автобиографическая книга скандинава-парижанина-италофила, была переведена на полсотни языков, а его фантастическая вилла – до сих пор главная достопримечательность Капри. Именно в любимой своей Италии ИБ и открыл этого допотопного литератора-аматера и обильно цитировал к месту и не к месту. В том числе, примеряя на себя: «Мне ничего не нужно, кроме того, чтобы мне не верили». Чего страшился – что стихи разойдутся на цитаты, как «Горе от ума», станут общедоступны, как часть масскультуры, которую рифмовал с макулатурой.
– Пир во время чумы? – спросила я, когда он упомянул холеру в Неаполе.
Это у нас была такая забава, словесный пинг-понг – перебрасываться цитатами, как мячиком. На этот раз он первым вышел из игры.
– Чумы, холеры – без разницы, но почему? Непреложный закон равновесия между смертью и жизнью, утверждает мой швед пост-Полтава. Там, где какая-то случайная причина нарушает это равновесие – чума, землетрясение или война, бдительная природа тотчас начинает выравнивать чаши весов, создавая новые существа, которые заменили бы павших. Вот мужики и бабы и трахают друг друга в полном беспамятстве. А рядом смерть – в одной руке любовный напиток, в другой – чаша вечного сна. Смерть – начало и конец.
– А ты здесь при чем? – спросил папа.
– При том! Старческая похоть либо похоть туберкулезников – той же природы. Что проглядывает для нас в женщине в момент соития?
Слабый отблеск бессмертия, надежда на генетическую вечность. Тем более для смертника – последняя возможность забросить семя в будущее.
– Ты уже однажды забросил, – напомнила мама.
– Неудачно. Полный завал. Имею право на еще одну попытку?
К тому же она – Мария. Арина – Марина, Марина – Мария.
Марией звали его мать, Мариной – оставленную им в Петербурге фемину, его первую любовь (она же – последняя), которую он называл «врагиней», «ягой» и «дамокловой женой» и посвятил ей все любовные стихи плюс одно антилюбовное. Говоря о ней, ссылался на Стесихора и Еврипида, а те, как известно, считали Елену Троянскую: один – наваждением, другой – видением. Здорово она тогда его достала, коли он теперь отрицал само ее существование, но все еще был зациклен на ее имени и жену подобрал по именному принципу.
– Что говорить, сильный аргумент в пользу твоей женитьбы, – сказал папа. – Реванш с Марией за поражение с Мариной.
– А что! У мужиков обычно физический стереотип, со стороны непонятно – зачем меняет шило на мыло? Похожи, да? В одну масть. А у меня как пиита – еще и лингвистическое клише. Архетип, так сказать.
Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Не оно, а она. И не только слух.
Вот и торчу на ней. Реванш? Даже если реванш. Отступать уже некуда.
Очень гордился, что зачал, что зачал под 50.
Козел в Питере был еще тот, даже запах козлиный, который мама объясняла коммунальными условиями его тогдашнего существования: одна ванна на несколько семей. Это еще мои девичьи от него импрешнс, питерские: потеющие подмышки да мужской возбуждающий запах.
Или это я потом напридумала – насчет возбуждения? Самец по преимуществу, с харизмой, с талантом, но и талант на сексуальной основе.
Лучшее, что сочинил в Питере и первые годы в иммиграции – стоячим, да еще каким: стоячим и горячим. Хотя потом отрицал самцовость как творческий фактор, проповедуя равнодушие, остраненность и флегму:
– Скука? Как признак мыслящего тростника. Знак цивилизации, если угодно.
Это уже в Нью-Йорке, отстаивая свой новый статус-кво и опровергая себя прежнего.
Помню, как вы с папой собачились на этот предмет в отеле «Люцерн», что у Центрального парка, куда ты явился к нам на следующий день после нашего приезда и повел в китайскую столовку: стоячим писать или не стоячим?
Теперь ты отстаивал нестоячий способ, что было адекватно не только твоему нынешнему профессиональному письму, но и твоей сексуальной энергии. Про первое можно было сказать словами Флобера:
«Он приобрел часы и потерял воображение», а про второе лучше всего написал ты сам: красавице платье задрав, видишь то, что искал, – ни больше и ни меньше. Пересказываю прозой – и впредь постараюсь, – чтобы не испрашивать у вдовы разрешение на эксцерпцию. В Питере был воображенником, а здесь перестал и отстаивал теперь право на существование каков есть. Говорю не в укор, а с жалостью, хотя он предпочел бы укор и обложил бы меня потоком контраргументов и трехэтажным матом.
Когда впервые увидела его в Джей-Эф-Кей, не выдержала и заплакала: облысел, морщины, выпирающий живот, кривая ухмылка. Глаза стали белесыми, почти бесцветными, но взгляд – тот же. Нет, не потускнел. И голос, слава богу, тот же. Постепенно привыкла. Будь русофилкой, сказала бы, что это мичиганщина его состарила. Как и было на самом деле, но это потребовало бы долгих пояснений. То, что мы застали в Нью-Йорке, были останки человека, мужа, пиита. Он весь был в прошлом, и мы его любили за прошлое. Хотя уже не так, как прежде.
А настоящего было бесконечно жаль. Потому папан с тобой и сцепился тогда в «Люцерне», не узнав тебя в тебе, а я качу на тебя сейчас бочку.
– Что было, то было, – сказал ты, идя на попятную. – Стоячий период позади.
И перекинулись на политику: политическое животное с ног до головы, ты теперь отрицал политику и отстаивал искусство для искусства.
Что не мешало тебе возвращаться к ней постояно: в трепе, в стихах, в интервью. Живой оксюморон, ты не стеснялся противоречий.
То же самое с Приапом, который занял место Эроса, но не заменил его.
Жаловался на проблемы с эрекцией и спермой. Больше, правда, прозой – устной и письменной, чем в стихах. Странно: тебя травмировала импотенция, а не безлюбость. Ты разучился влюбляться. А если это связано: Эрос с Приапом, импотенция с невлюбчивостью?
Твоя метафизика не от хорошей жизни. Сам так считал.
Импотент не узнавал в себе самца и отвергал былую самцовость.
Хуже того: былую любовь.
Изменился ты и в самом деле катастрофически.
Ты уже не понимал собственных чувств, вызванных – или вызвавших? – любовной катастрофой, которая разломила пополам твою жизнь. А вовсе не судебный фарс – потому ты и отнесся к нему с таким неделанным равнодушием, что было не до того. Ты прожил две жизни, и вторая перечеркивала первую.


![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)