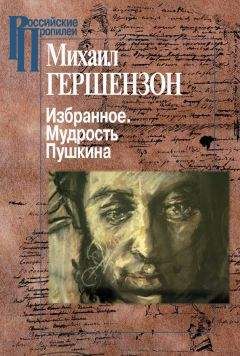Словом, и поклонники, и хулители вырвали из контекста средний член: «Россия, как она есть, равна нулю», отбросив все остальное. С какой точки зрения автор признал ее равной нулю, это никого не интересовало: утверждению придали безусловный характер, или, вернее, его наполнили обычным публицистическим содержанием. Современники окарнали мысль Чаадаева и грубо вульгаризировали ту часть ее, которая одна оказалась им по плечу. Мы видели, что этому способствовала самая форма знаменитого письма; но главная причина недоразумения коренилась, конечно, в умственном складе тогдашнего общества.
Понял вполне, по-видимому, только один человек: это был, как и следовало ожидать, Пушкин. Если бы из всего, созданного Пушкиным, до нас дошло только письмо, написанное им по получении от Чаадаева оттиска статьи из «Телескопа», – этих трех страниц было бы достаточно, чтобы признать его замечательнейшим человеком тогдашней России: так много в них ума, так высоко и пламенно дышащее в них чувство. Он сразу уловил самую сердцевину учения Чаадаева – идею имманентного действия духа Божия в истории человечества – и возражает ему, становясь на его собственную точку зрения. Наша обособленность от Европы, вызванная религиозными причинами, не была, говорит он, – несчастной исторической случайностью; у нас было особенное призвание, которое только под этим условием и могло осуществиться: России было предназначено спасти христианскую цивилизацию от татарского разгрома, – вот почему она должна была по воле Провидения, исповедуя христианство, жить отдельно от христианского мира, «чтобы наше мученичество ни на минуту не нарушило энергетического развития католической Европы». – Какова бы ни была фактическая ценность этого довода, во всяком случае, он бил прямо в цель. Так же метки дальнейшие, частные возражения Пушкина – касательно Византии и ее влияния на русскую церковь и касательно нашего исторического ничтожества. Во всем, что относится к характеристике современного русского общества, он вполне соглашается с Чаадаевым, и эти строки поразительны по страстной горечи и силе языка; но этот пункт, как и следовало, занимает в его ответе лишь частное место, не застилая основной, несравненно более широкой темы спора[416].
Чаадаев, несомненно, был вполне прав, утверждая позднее, что напечатание его письма в «Телескопе» было для него самого неожиданностью: Надеждин, раздобыв где-то копию письма, обратился к нему за дозволением печатать только тогда, когда статья была уже разрешена цензором и даже набрана, и он дал согласие – «увидя в самой чрезвычайности этого случая как бы намек Провидения»[417]. И действительно, было бы более чем странно, если бы он сам вздумал напечатать это письмо. Во-первых, оно было писано не для публики и в отдельности не имело смысла; во-вторых – теперь, в 1836 году, он на многое смотрел иначе, нежели шесть лет назад, когда оно писалось, особенно как раз на тот предмет, который был главной темой этого письма, – на характер и назначение России. Эту перемену в своих взглядах он сам открыто удостоверил в письме к гр. Строгонову, писанном тотчас после кары; да и со стороны она была настолько ясна, что, например, А. И. Тургенев немало удивился, увидев в «Телескопе» Чаадаевскую статью, – потому что Чаадаев-де «уже давно своих мнений сам не имеет и изменил их существенно»[418]. – Мы теперь, имея в руках целый ряд писем Чаадаева за промежуточные годы, без труда можем восстановить ход развития его мысли, приведший к этой перемене.
Из этих писем прежде всего с полной очевидностью явствует, что априорные и историко-философские убеждения Чаадаева остались неизменными, как и вообще период идейного творчества окончательно завершился для него к тому моменту, когда он вернулся в общество. Перемена коснулась (если не считать мелких поправок) только частного пункта, каким был его прикладной вывод относительно России.
Когда в «Философических письмах» Чаадаев утверждал, что история России, стоявшей вне общехристианского единства, сделалась вследствие этого какой-то чудовищной аномалией и сама Россия представляет в настоящую минуту unicum среди европейских народов, то при тогдашнем его настроении это установление факта естественно приняло судебный характер, то есть превратилось в осуждение прошлого России и обличение ее настоящего. Но при более спокойном отношении к делу этот самый факт мог быть истолкован и иначе; естественно было сказать себе, что тысячелетняя история огромного народа не может быть сплошной ошибкою, что, напротив, в своеобразии его судьбы – разгадка и залог его исключительного предназначения. – Мы видели, что именно так поступил Пушкин; и телеологическая точка зрения, на которой стоял Чаадаев, как раз и требовала такой объективной оценки факта. Характерно, что в знаменитом «Философическом письме» Чаадаев едва касается вопроса о будущем России, поглощенный живописанием ее прошлого и настоящего, тогда как его письма 30-х годов наполнены рассуждениями о будущности русского народа. Тогда, угрюмый отшельник, выброшенный из жизни, он являлся судьей-обвинителем своей родины, – а судить можно только прошлое и настоящее; теперь, успокоившись и вернувшись в действительность, он почувствовал себя гражданином, и его мысль направилась вперед, на будущее. Если, таким образом, источник перемены, происшедшей во взглядах Чаадаева, был не столько логического, сколько психологического свойства, то, с другой стороны, очень вероятно, как думает П. Н. Милюков[419], что содержание его новой мысли было до известной степени определено тем умственным течением, которое он встретил по вступлении в московское общество. Не то, чтобы на него оказал прямое влияние «московский шеллингизм»{254}, но он попал здесь в атмосферу, насыщенную историко-философскими идеями особого рода: здесь с живым увлечением дебатировались вопросы о всемирно-исторической роли народов, о провиденциальной миссии, о понятии национальности и пр., и эти категории мышления, не чуждые ему и до сих пор, но затмеваемые его религиозно-исторической концепцией, не могли не отразиться на дальнейшем развитии его учения.
Новая мысль Чаадаева созрела не сразу, и, по счастью, мы можем проследить ее последовательные этапы. Первый из них закреплен в книге, написанной не Чаадаевым. В 1833 году (цензурная помета – 24 марта) вышло в Москве вторым, совершенно переработанным изданием сочинение д-ра Ястребцова: «О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к образованнейшему классу общества». В этой книге страницы, посвященные характеристике России, представляют собою изложение мыслей Чаадаева, как о том добросовестно заявляет сам автор. Когда позднее над Чаадаевым разразилась гроза из-за «Философического письма», он, чтобы оправдать себя, послал Строгонову книгу Ястребцова, прося его прочитать «эти страницы, писанные под мою диктовку, в которых мои мысли о будущности моего отечества изложены в выражениях довольно определенных, хотя неполных»[420].