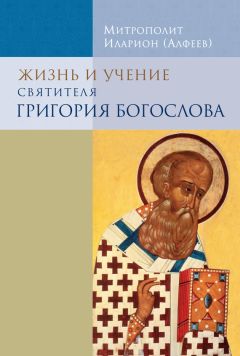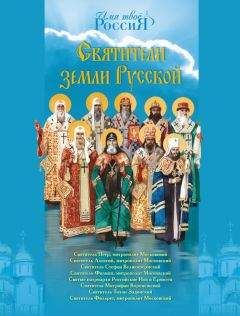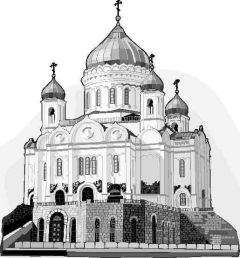Прощаясь с городом, к которому Григорий успел привыкнуть и который успел полюбить, он перечисляет храмы, где ему пришлось служить, сожалея, что успел лишь недолго послужить в кафедральном соборе Святых апостолов; он обращается к епископам, священникам, монахам, мирянам и всем членам своей паствы с прощальными приветствиями. Слова Григория помогают воссоздать атмосферу, которая царила в столичных храмах во время совершаемых им богослужений:
Прощай, Анастасия, соименная благочестию, ибо ты воскресила для нас учение, прежде презираемое!.. Прощайте, и прочие храмы, близкие по красоте к Анастасии!.. Прощайте, Апостолы, прекрасное поселение, мои учителя в подвижничестве, хотя и не часто совершал я богослужение у вас!.. Прощай, престол – эта завидная и опасная высота архиереев; прощай, собрание иереев, почтенных саном и возрастом, и все служащие Богу при священном престоле!.. Прощайте, хоры назореев[192], гармоничное пение, всенощные стояния, досточестность дев, благопристойность женщин, толпы вдов и сирот, очи нищих, взирающие на Бога и на нас! Прощайте, страннолюбивые и христолюбивые дома!.. Прощайте, любители моих слов и эти стечения и потоки народа, и трости, пишущие явно и скрыто[193], и эта преграда, едва выдерживающая теснящихся слушателей! Прощайте, цари и царские дворцы, и служители царя и домочадцы, если и верные царю – не знаю этого – то в большинстве своем не верные Богу![194] Рукоплещите, гром ко кричите, поднимите на высоту вашего ритора![195] Умолк язык, который был для вас злым и многословным! Он не умолкнет совсем – ибо будет бороться рукой и чернилами – но сейчас мы умолкли. Прощай, город великий и христолюбивый!.. Прощайте, Восток и Запад!.. Прости мне, Троица, забота моя и украшение мое; да сохранишься у этого народа моего и да сохранишь народ мой – ибо он мой, хотя судьба моя и складывается иначе…[196]
Покинув Константинополь, Григорий вернулся на родину с твердым намерением навсегда оставить общественную активность и «сосредоточиться в Боге»:[197] он желал посвятить остаток дней уединению и молитве. Однако в Назианзе он нашел церковные дела в том же состоянии, в котором оставил их шесть лет назад; епископ так и не был избран. Городской клир обратился к Григорию с той же просьбой, с которой обращались к нему после смерти Григория-старшего – принять на себя управление епархией. В течение приблизительно одного года Григорий, несмотря на частые болезни, управлял епархией своего отца, но «как посторонний», то есть по-прежнему как епископ другого города[198].
В 382 году в Константинополе состоялся еще один церковный Собор, на который звали Григория, но он решительно отказался ехать: «Я, по правде сказать, так настроен, чтобы избегать всякого собрания епископов, потому что не видел я еще ни одного Собора, который бы имел благополучный конец и скорее избавлял от зол, чем увеличивал их»[199]. Участие в Соборе 381 года, который закончился для Григория столь плачевно, отбило у него всякую охоту к подобным мероприятиям: «Не буду заседать на собраниях гусей или журавлей, дерущихся между собой без причины, где раздор, где битва и где прежде всего все постыдные тайные дела враждующих собраны в одно место»[200].
Не поехав на Собор, Григорий, однако, пытался на расстоянии повлиять на его благополучный исход, посылая письма своим влиятельным друзьям. «Философствую в безмолвии, – писал он Софронию-ипарху. – …А вас прошу приложить все усилия, чтобы хотя бы теперь, если уж не прежде, пришли в согласие и единство части вселенной, жалким образом разделившиеся, и особенно если увидите, что раздор у них не по вероучительным причинам, а из-за частных мелочных притязаний, как я заметил»[201]. В письме к Сатурнину Григорий выражал опасение, что новый Собор закончится так же постыдно, как и прежний, и что на Соборе могут вернуться к рассмотрению его дела[202].
К концу 383 года здоровье Григория было окончательно подорвано, и он попросил отставку у епископа Феодора Тианского. В письме к нему Григорий жаловался на плохое здоровье и постоянные нападки аполлинариан, прося назначить для Назианзской церкви нового епископа:
…Несправедливо страдает Божия паства, лишенная пастыря и епископа из-за моей мертвости. Ибо держит меня болезнь: она внезапно удалила меня от (управления) Церковью, и теперь ни к чему я не годен, всегда нахожусь при последнем издыхании, еще более ослабеваю от дел… Я уже не говорю о прочем – о том, что восставшие ныне аполлинариане сделали Церкви и чем угрожают… Остановить это не под силу моему возрасту и моей немощи…[203]
Феодор удовлетворил просьбу Григория: на его место поставили хорепископа Елладия, одного из его ближайших помощников. Григорий удалился в свое фамильное имение в Арианзе, где и провел последние годы жизни. То, к чему он всегда стремился, – уединение и досуг – было наконец дано ему. Он вел аскетический образ жизни, хотя и сохранял за собой все свое владение. На время Великого поста он давал обет молчания, при этом продолжая писать письма и стихи и даже принимать гостей, но молча[204]. Свой досуг Григорий посвящал по преимуществу литературным занятиям. Он был уверен в ценности собственного литературного творчества и предвидел, что его сочинения переживут его: «Мой дар – слово; оно, всегда переходя далее, достигнет, может быть, и будущих времен»[205]. В этом предвидении Григорий не ошибся.
Находясь в Арианзе, Григорий вел обширную переписку с людьми самых разных категорий – с епископами, священниками, монахами, риторами, софистами, военачальниками, государственными чиновниками и представителями местной знати. Содержание этих писем очень разнообразно: от жалоб на здоровье до ходатайств о том или ином из близких Григорию людей; от советов относительно духовной жизни до рекомендаций, касающихся литературного стиля. Григорий считал письма произведениями искусства, тщательно отшлифовывал каждое письмо и был высокого мнения о своем собственном эпистолярном стиле. В одном из писем к Никовулу, своему внучатому племяннику, воспитанием которого он занимался на старости лет, Григорий говорит о нормах эпистолярного жанра:
Мера письма – необходимость: не надо ни удлинять его, если предметов немного, ни укорачивать, если предметов много… Вот что знаю о длине письма. Что же касается ясности, то известно, что надо по возможности избегать книжного слога и приближаться к разговорному… Третья принадлежность писем – приятность. Ее же соблюдем, если будем писать не совсем сухо, не без изящества, не без прикрас, и, как говорится, не без грима и не обстриженно, то есть не без мыслей, пословиц и изречений, а также шуток и загадок, ибо всем этим подслащается письмо. Однако не будем пользоваться этим сверх меры: когда ничего этого нет, письмо грубо, а когда этого слишком много, письмо напыщенно. Все это должно использоваться в такой же мере, в какой – красные нити в тканях… Вот что касательно писем посылаю тебе в письме[206].
Никовул был, надо полагать, благодарным учеником: он не только усваивал уроки Григория, но и, по его заданию, занимался подготовкой коллекции его писем к публикации[207].
К позднему периоду жизни Григория относятся его автобиографические поэмы, стихотворения на богословские и нравственные темы, а также многочисленные стихотворения дидактического характера. В числе последних – поэтические переложения библейских и евангельских эпизодов, притч и изречений Иисуса Христа: используя классические формы, Григорий наполнял их христианским содержанием. Арианзский отшельник задался целью создать своего рода компендиум христианской учебной литературы для юношества, которая могла бы заменить собою в качестве образцов для изучения и подражания произведения классиков языческой античности. Об этой цели своего творчества говорит сам Григорий, когда перечисляет причины, побуждающие его писать стихи
Во-первых, я хотел, трудясь для других,
Тем самым связать собственную неумеренность[208],
Чтобы, хотя и писать, но немного,
Заботясь о мере[209]. Во-вторых, юношам
И, конечно, всем, кто любит словесность,
Хотел я, словно некое приятное лекарство,
Дать нечто привлекательное для убеждения к полезному,
Чтобы искусством подсластить горечь заповедей…
В-третьих… не хочу, чтобы в словесности
Преимущество перед нами имели чужие…
В-четвертых, изнуряемый болезнью,
Я обретал радость в стихах, как старый лебедь,
Который говорит сам с собою и хлопает крыльями,
Воспевая не песнь плача, но песнь исхода[210].
Автобиографические стихи позднего периода приоткрывают перед нами внутренний мир Григория в годы его старости. Он много думает о смысле жизни и о смысле страданий. Как и прежде, он любит предаваться размышлениям на лоне природы: