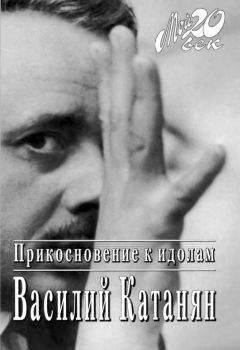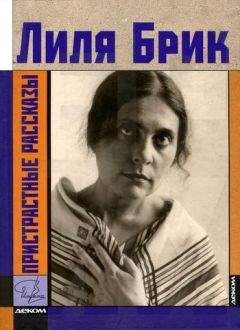Это был 1922–1923 год. Она поставила условием — встреча ровно через два месяца, 28 февраля 1923 года. Поэт жил в своей комнате на Лубянке и, обливаясь слезами, писал «Про это». Два месяца провел он в своей добровольной тюрьме, просидев добросовестно, ничего себе не разрешая и ни в чем себя не обманывая. Ходил под Лилиными окнами. Передавал через домработницу Аннушку записочки («записочную рябь»), письма и рисуночки. «Он присылал мне цветы и птиц в клетках — таких же узников, как он. Большого клеста, который ел мясо, гадил, как лошадь, и прогрызал клетку за клеткой. Но я ухаживала за ним из суеверного чувства — если погибнет птица, случится что-нибудь плохое с Володей». Когда они помирились, она выпустила птиц на волю.
Он написал про все это — поэму о любви, о быте, вернее о бытии. О том, о чем приказал себе думать эти два месяца, о том, о чем Лиля велела ему задуматься. Впереди была цель — кончить поэму, встретиться, жить вместе, по-новому. Он писал день и ночь, писал болью, разлукой, острым отвращением к обывательщине, благодушию и мещанству, к себе — как ему казалось, — во всем этом погрязшему. Поэма явилась выходом из сложного морально-психологического кризиса: работа над стихами и над собой сливалась воедино. Маяковский писал, снедаемый мрачными мыслями, ревностью, сомнением, отчаянием, но исполненный решимости во всем разобраться и все одолеть.
Чем понятнее стихи, тем они не поэтичнее — поэма сложна. Читая ее, нужно знать другое произведение поэта.
Например, «Про это» перекликается с поэмой «Чело — пек», написанной семь лет назад. Поэтому и заглавие одной из глав «Человек из-за семи лет». Уже там Маяковский начал войну с пошлостью, с обывательщиной, ставшей темой «Про это», — писала ЛЮ.
«Современная литература все более развивается по принципу: «кто может — тот поймет, а кто не может — гаму и объяснять нечего», — пишет Нина Берберова в книге «Курсив мой». — Пруст доступен не всякому, одна из книг Джойса требует несколько месяцев напряженного внимания, а другая — том комментариев».
Не так ли и с «Про это»? Многоплановая ассоциативная поэзия, где личное часто переплетается с общечеловеческим и есть вещи, доступные не всем и не сразу.
Однажды, не в силах совладать с тоской по любимой, Маяковский позвонил из своего заключения Лиле, и она разрешила писать ей, «когда очень уж нужно». И он не удержался:
«…Людей измерять буду по отношению ко мне за эти два месяца. Мозг говорит мне, что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни, если б такое случилось с Лиличкой, я б прекратил это в тот же день».
«…Ты одна моя мысль, как любил я тебя семь лет назад, так люблю и сию секунду, что б ты ни захотела, что б ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь и в расставании сам виноват…»
Она сердилась на себя и на него, что не соблюдают условий, но не в силах была не отвечать.
«Волосик! Щеник! Больше всего на свете люблю тебя. Потом — птичтов. Мы будем жить вместе, если ты этого захочешь. Твоя Лиля».
Все письма Владимира Владимировича тех дней то обвиняют, то просят прощения. Они сбивчивы, непонятны. Непонятны нам, сегодняшним. Но не им двоим — тогда.
28 февраля кончался срок их разлуки, они решили уехать в Ленинград. «Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона. Как только поезд тронулся, Володя, прислонившись к двери, прочел мне поэму «Про это». Прочел и облегченно расплакался. Не раз в эти два месяца я мучила себя упреками за то, что Володя страдает в одиночестве, а я живу обыкновенной жизнью, вижусь с людьми, хожу куда-то. Но поэма не была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит громко, но тогда это было именно так», — писала Лиля Юрьевна.
По ее просьбе моя мать, разбирая в 1930 году архив поэта, перепечатала дневник, к ней обращенный. «Он вел его, работая над «Про это», — писала она, — день за днем описывая свои мысли и чувства: это очень интимно, адресовано только Лиле, и она его никому не показывала. Его видело всего несколько человек. Это документ необычайной важности. Письмо-дневник написано на той же сероватой, большого формата бумаге, на которой написана и вся поэма. Оно писалось каждый день, пока он работал, и из этого дневника выросло не только «Про это», но и некоторые последующие стихи.
Когда, разложив перед собою этот дневник и рукопись поэмы, я читала их параллельно — у меня было ощущение, будто я совершаю святотатство, заглядываю в такие глубины творческого процесса, куда другие не допускаются.
Письмо-дневник является также необычайной силы человеческим документом, отражающим тяжелое душевное состояние поэта во время этой работы. Некоторые страницы закапаны слезами. Другие страницы написаны тем же сумасшедшим почерком, каким написана и предсмертная записка. У меня было впечатление, что он несколько раз был близок к самоубийству во время написания поэмы.
Когда происходила передача архива в музей, дневник этот был затребован Асеевым, членом комиссии по литературному наследию Маяковского, который знал о нем. Но ЛЮ отказалась отдать его, сказав, что это лично ей адресовано. («Лилик, я ведь пишу обо всем об этом не для себя, а для тебя».) Поэтому она имеет право его не отдавать. И дневник этот еще при жизни она положила на закрытое хранение в архив. Но многие страницы оттуда она включила в свои «Воспоминания». Однако не все. Там есть места очень личные, которые она не хотела предавать огласке. Это отчаянные, трагические строки и, перепечатывая их, я еле сдерживала слезы».
Что за бабушкины нравы?
В 1923 году, после «Про это», их жизнь в какой-то степени успокоилась. К весне относится письмо, написанное Лилей Юрьевной, в котором она делает попытку наладить жизнь с любимым человеком, отказавшись от новшеств и экспериментов, подсознательно, видимо, понимая, что никуда не уйти от простого уюта и домашнего тепла. Все это читается между строк в письме, написанном тогда весной:
«Володенька,
как ни глупо писать, но разговаривать мы с тобой пока не умеем: жить нам с тобой так, как жили до сих пор — нельзя. Ни за что не буду! Жить надо вместе; ездить — вместе. Или же — расстаться — в последний раз и навсегда.
Чего же я хочу? Мы должны остаться сейчас в Москве; заняться квартирой. Неужели не хочешь пожить по — человечески и со мной?! А уже исходя из общей жизни — все остальное. Если что-нибудь останется от денег, можно поехать летом вместе, на месяц; визу как-нибудь получим; тогда и об Америке похлопочешь.
Начинать делать это все нужно немедленно, если, конечно, хочешь. Мне — очень хочется. Кажется — и весело и интересно. Ты мог бы мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы был со мной и для меня. Если бы, независимо от того, где были и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью вместе рядом полежать в чистой удобной постели; в комнате с чистым воздухом; после теплой ванны!