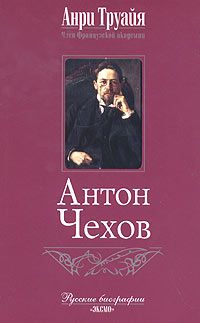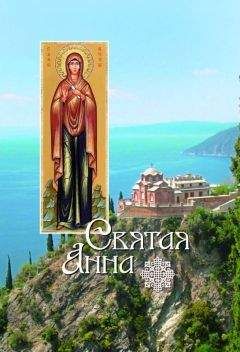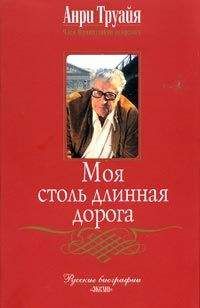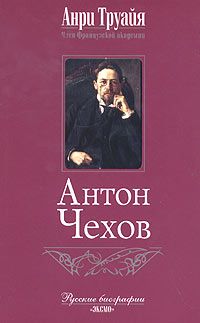Другим примечательным человеком в компании был Владимир Гиляровский, газетчик, работавший в «Русских ведомостях». Этот крепкий, атлетически сложенный, яркий и шумный человек гордился своими стальными мускулами, безупречной памятью и дьявольской ловкостью в карточных фокусах. По любому поводу он начинал демонстрировать окружающим бицепсы или, хвастаясь богатырской силой, ломал стулья. Гиляровский перепробовал множество профессий: был бурлаком на Волге, грузчиком, рабочим на белильном заводе, цирковым акробатом, гонял табуны в Задонских степях… Он знал множество неприличных анекдотов и с громким хохотом их рассказывал. В городе он знал всех и каждого и равно непринужденно чувствовал себя в Английском клубе и в ночлежке на Хитровом рынке. Гиляровский снабжал свою газету местными новостями, сценками, репортажами и стихами. Собратья по перу называли его «королем журналистов». Подружившись с Чеховым, Владимир приобщил его к тайной жизни Москвы и не раз снабжал темами для статей.
В эту же компанию входил и Попудогло, тонкий стилист, наполовину спившийся и обреченный на раннюю кончину; и Сергиенко, бывший ученик таганрогской гимназии, скромно кормившийся своим пером и помешанный на учении Толстого. Николай, со своей стороны, приводил в дом оборванных художников, которые крепко пили и с жаром спорили о традициях и новациях в искусстве. В конце 1880 года именно брат познакомил Антона с робким и пылким молодым евреем – будущим великим пейзажистом Исааком Левитаном, которому тогда было всего девятнадцать лет.
Обычно к буйным гостям старших братьев присоединялись друзья Миши и Маши, которые вносили свою лепту в споры и вплетали свои голоса в общий шум.
К тому времени семья снова переехала. Теперь Чеховы жили в более просторной квартире на Сретенке. Дверь была неизменно открыта для всех желающих, что очень нравилось Антону, любившему движение и новые лица. Рядом с ним затевались салонные игры, Николай садился за пианино, кто-нибудь еще пощипывал струны балалайки, и все хором принимались распевать народные песни, а потом промачивали пересохшее горло, опрокидывая стакан за стаканом. И все же порой Чехов, которому мешала вся эта веселая суета, жаловался, что не может найти тихого уголка, где мог бы поработать. «Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“…[46] Кто-то завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“… Хочется удрать на дачу, но уже час ночи. Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. „У дочки, должно быть, резь в животе – оттого и кричит…“ Я имею несчастье быть медиком, и нет того индивидуя, который не считал бы нужным „потолковать“ со мной о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу.
Обстановка бесподобная. Браню себя, что не удрал на дачу, где, наверное, и выспался бы, и рассказ бы Вам написал, а главное – медицина и литература были бы оставлены в покое. […]
Ревет детиныш!!! Даю себе честное слово не иметь никогда детей…»[47]
Нередко вечера, начавшиеся музыкой и болтовней, заканчивались попойкой. Как-то Александр явился домой мертвецки пьяным, едва держась на ногах, он кривлялся, грубо ругался при матери и сестре и грозил набить морду Антону. Возмущенный Чехов тут же написал ему решительное письмо, объясняя, что, хотя очень любит брата, из принципа не станет терпеть от него оскорблений и что даже в пьяном виде нельзя хамить окружающим. Он готов был в любую минуту вычеркнуть из своего словаря слово «брат», которым Александр хотел его припугнуть, когда он покидал поле боя, но не потому, что был бессердечен, а потому, что в жизни надо быть готовым ко всему, и советовал братьям брать с него пример.
Должно быть, Александр, протрезвев, извинился перед Антоном, потому что инцидент вскоре оказался забыт. Чехов слишком глубоко любил семью, чтобы подолгу держать обиду на кого-то из близких. Брат Николай в последнее время доставлял ему хлопот не меньше, чем Александр. Талантливый художник-юморист, Николай часто иллюстрировал рассказы Антона. Он мог бы сделать блестящую карьеру. Но издателям не следовало рассчитывать на то, что Николай представит рисунок к назначенному времени. Пренебрегая пунктуальностью, работая от случая к случаю, забывая о самых срочных заказах, он нередко пропадал на несколько дней и запойно пьянствовал где-то в московских трущобах. Потом возвращался домой среди ночи, его рвало, он одетый падал на диван и с головой укрывался одеялом, так что наружу торчали только ступни в грязных и рваных носках, и в течение суток отходил от пьянки. Чехов, нежно любивший брата, не упрекал его, но с отчаянием говорил о том, что слабоволие губит такой замечательный талант. Антон заклинал брата неустанно трудиться, днем и ночью, непрерывно читать, учиться, не терять драгоценного времени, призывал разбить графин с водкой. Тщетно.
Глядя, как оба старших брата постепенно опускаются все ниже, Антон испытывал особенно сильное желание пробудить в них мужество и достоинство. Для этого, думал он, надо не проповедовать, облачась в тогу банальной морали, а трудиться самому, личным примером показывать, что ничто никогда не бывает окончательно потеряно. Будучи врагом метафизических и религиозных спекуляций, он не взывал к Богу с просьбой о помощи, его битва разворачивалась на земле. Антон дал клятву совершенствоваться внутренне сам и воспитывать членов семьи и полагался в этом только на собственную любовь, собственное терпение, собственную волю, которые и должны были привести его к цели. Несколько лет спустя Чехов напишет своему другу Суворину: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».[48]