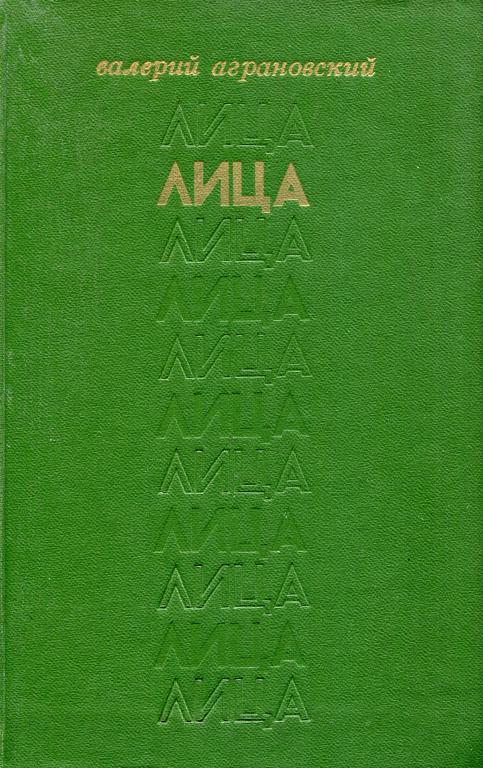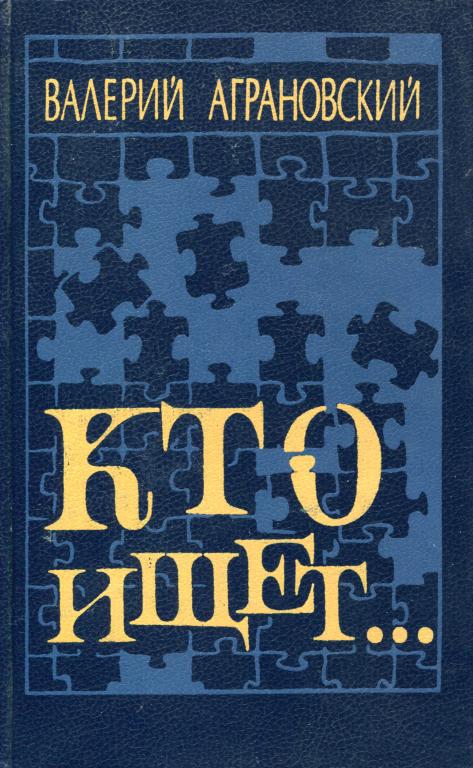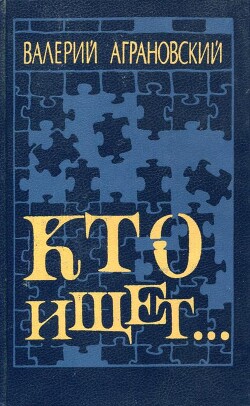он с сибирским акцентом: «Пострелям, а потом покушам», но характером был похож на питерца Батю. Не зря они так дружили. Разница между ними была лишь в том, что один — солдат, а другой — капитан. Но Белоусов эту разницу никогда не подчеркивал, а Батя никогда ее не забывал. И все же Белоусов Батю побаивался. Однажды, когда он пошел к торфушкам, Батя посмотрел на него вроде бы между прочим и сказал: «Ну как, товарищ капитан, жена лучше или хуже будет?» Белоусов рассердился, потому что ему было совестно. Между прочим, среди торфушек была одна симпатичная девчонка, Галя Иванова. Она сказалась цыганкой и нагадала Белоусову скорую и легкую смерть. Он еще над ней посмеялся. Мы же не верили в смертность ни Бати, ни нашего капитана, потому что всегда они были спокойные и уверенные и безрассудства не допускали. Один только раз Белоусова отругал командир полка, когда мы бросили орудия и пошли с моряками в атаку. Но командир полка сам понимал, что это было святое дело. И еще я помню, как однажды мы сидели у костра и какой-то чудак уронил в огонь гранату. Мы все бросились в разные стороны, повалились ничком и ждали взрыва. А Батя встал, подошел к костру и вынул из огня гранату. «Ей детонация нужна, — оказал Батя, — а не жар». И все. И при таком опыте, конечно, безрассудства быть не может. Нас, молодых, они учили, а больше жалели. Ленинградцев капитан Белоусов отпускал домой и говорил только, чтобы за четыре часа оборачивались туда и обратно. Сам же в Ленинград ездил редко, поэтому Валя Козина и отвозила его жене и сыну офицерский паек. И еще она заходила в Дегтярный переулок к жене и двум дочерям Бати.
Днем, шагая к Ленинграду, мы пели песни. «Милая, не плачь, не надо, грустных писем не пиши…» Эту песню мы пели под шаг как строевую, а после войны молодежь танцевала под нее танго. Мы тоже иногда танцевали, во время привалов, так как патефон был с нами. Мы танцевали друг с другом и еще по очереди с Валей, а Колька беспрерывно курил. На марше Валя была у нас за командира. Белоусов молча уступал ей свои права. Оно давала команду на песню, объявляла привалы и перераспределяла ношу, если кто-нибудь задыхался. К концу пути получалось так, что больше всех нагружалась она сама. Она и, конечно, Коля.
От той батареи, что начинала войну, мы втроем и остались живы, впрочем, я не знаю судьбу Малаткина и старшины Борзых.
Года полтора назад я был у Николая и Вали дома. Они жили вчетвером, с двумя детьми, в маленькой комнате, их поставили наконец на очередь на квартиру, они волновались из-за этой очереди и заразили волнением меня. Их дочери было пятнадцать лет, а сыну девять. Дочка была похожа на Николая, с таким же бледным и тонким профилем и очень спокойная. А сын буян, в мать. При мне Валя лупила его брезентовым ремнем, сохранившимся еще с фронта, а он ей сказал: «Тоже мне, воспитание!» «Усохнешь!» — подумал я про себя.
Кстати, удивительное это дело — язык, на котором мы разговариваем. Вот соберутся однополчане-старики, начнут говорить о сегодняшней жизни, и сразу видно: этот — рабочий, а этот — юрист, а тот, положим, академик. Но стоит им заговорить о войне, ничего от их гражданских профессий не останется. Одним языком говорят. Прошлым. И все образование летит к чертовой матери, и разная там аккуратность в словах, и все различия. Понимать прошлое можно сегодняшней головой, а вот говорить о нем — лишь языком тех самых лет.
Итак, мы все шагали и шагали. А потом нам все же дали три дня чистого отдыха, но лучше бы его не давали. Мы расположились в молодом лесопарке, до фронта было километра полтора или два, а рядом с нами, тоже на отдыхе, стоял дивизион «катюш». В то время немцы почему-то усилили артобстрел. Долбали они как заведенные, с двух до половины четвертого ночи, а потом с одиннадцати до половины первого дня. Дадут залп — и три минуты отдыха, снова залп — и снова три минуты отдыха, хоть проверяй часы. На время обстрела мы залезали в траншеи. Но иногда над нами начинала кружить «рама». Сколько по ней ни били, она была словно заколдованная, а после нее начинался внеурочный долбеж. Правда, их больше интересовали «катюши», чем мы.
Два дня прошли замечательно, а на третий, утром, в наше расположение ворвался танк. Он шел со стороны фронта — молча, без выстрелов, ничего не обходя, напролом. И на танке были наши опознавательные знаки. Когда он пошел на «катюши», мы совсем растерялись и не знали, бить по сумасшедшему танку или не бить. Но тут он пересек дорогу, сковырнул палатку, забрался на бруствер и стал. У него заглох мотор. Первым подошел Белоусов. В танке был мертвый экипаж. Наверное, водитель умер последним, успев повернуть машину к своим. Мы похоронили ребят головами на восток.
И появилась тогда эта злополучная пачка чая. Она оказалась в вещах танкистов, и мы отдали ее Бате. Он относился к чаю как к богу, у него был целый обряд приготовления. Даже я запомнил разные термины, которые означают сорта индийского чая. Впрочем, Батя называл индийский чай «ассамским». От него я узнал, что главное в чае — это сохранить его аромат и что нельзя ставить заварку на огонь, ее нужно н а п а р и в а т ь, а для этого прикрывать сверху ватной бабой. Поэтому Батя и возил с собой толстую ватную бабу с размалеванным лицом.
Эта злополучная пачка была первой после гибели Васьки Зинченко. Батя обрадовался ей, как ребенок, и пошел по воду с брезентовым ведром. Это было ровно в одиннадцать дня, над нами как раз прошел со свистом первый немецкий снаряд.
Так всегда бывает: когда жив человек, его поступки кажутся нам обыкновенными и мы не думаем об их причинах. А когда человек умирает, мы начинаем думать. И у нас получается, что не будь того, не будь этого, не поступи он так, не сделай эдак… Все это бесполезная ерунда. Она никого не оправдывает и ничему не учит. Бати нет, и это — самое главное. И нечего разматывать прошлое.
Когда мы хоронили Батю, опять появилась «рама». И мы решили дать залп. Мы дали один залп и тут же опустили стволы к земле. Но «рама» действительно была заколдована, она ушла, а нас, вероятно, заметила. И через десять минут, как по учебнику, был перелет, потом недолет, а