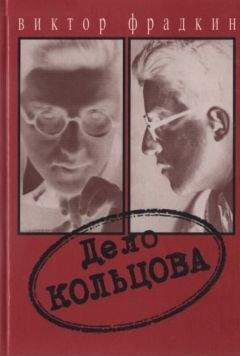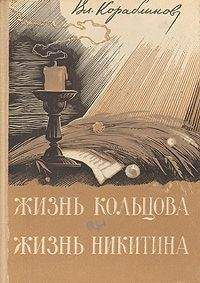— Батюшки, стреляют…
Лошадь неожиданно и жутко завозилась на грязном снегу. Низенький солдат потрогал ее нагайкой. Из соседнего дома испуганным шагом выкатился член домовой охраны, близорукий и глупый студент:
— В чем дело? Что за стрельба?
— А это, господин Комаровский, лошадь мучается. Жалко ее очень… Живая еще, стерва. Валяй дальше.
Студент бережно вынул браунинг и стал рядом с солдатом. Они выстрелили коротким залпом. Потом еще раз. Потом еще.
— А ну-ка, я еще разок… Для верности.
Лошадь уже не двигалась. Толпа стала расходиться.
…Мой случайный знакомый, веселый, рыжий авантюрист, побывавший в самых страшных переделках нашей революции, рассказывает:
— Ведут меня, эти, знаете, красноармейцы, пять человек… И чувствую, совсем ясно чувствую и вижу, что не доведут они меня до места назначения. Понимаю, что ликвидируют меня по дороге. Нюх у меня такой выработался, как в романах пишут: запах смерти. И не то, чтобы на меня злы были… Нет, здесь что-то другое. Их пятеро с винтовками, я один и безоружен, да еще молчу. Им неприятно, тяжело. Стыдно немножко вести меня. А это самое страшное. Я иду, смотрю на них и чувствую, что еще пять минут и совсем одержит их жалость, прикончат они меня у забора. И начал я через силу последними словами ругаться. Самыми распоследними. Теперь мне даже про себя вспомнить их стыдно. Царя ругал, офицеров… Потом Троцкого, всех комиссаров… Женщин, евреев, мать свою собственную последними словами унизил. И чувствую, что дело к лучшему. Солдаты озлились, разошлись, ожили… Стали свирепые у них лица, и я уже не боялся: не было на них этой истошной муки, тоски, этой черной жалости — жалости, от которой человек убить способен. Довели до штаба благополучно.
…Когда в Великоруссии расстреливали Розанова, Меньшикова, монаха Варнаву, повторялось одно и то же.
Семьи осужденных или сами расстреливаемые ползали у ног красногвардейцев, плакали, рвали на себе волосы, умоляли о пощаде и жалости. И в этих случаях расстрел был особенно жестоким и потрясающим. Жестокость эта не от бесчувствия, а от мутной истошной тоскливой жалости.
Как странно, что московский Петерс, отныне легендарный, расстрелявший несколько тысяч человек и добивавшийся ареста Ленина — как странно, что, когда его самого солдаты повели на расстрел, он тоже валялся в ногах, кричал и плакал о помиловании. Разве не чуял он, неуязвимый от слез и молений человек, твердых законов человеческого милосердия и человеческой жестокости?..
У этого Петерса я был в Москве: мне нужно было разделываться за фельетон о Чрезвычайке, напечатанный в одной из московских газет. Я провел в кабинете на Лубянке пятнадцать жутких и душных минут. Но запомнилась из них надолго одна.
Мы вышли вместе на улицу. Петерс поежился на весеннюю слякоть и стал натягивать на большие руки перчатки. Старые, истертые лайковые перчатки.
Пальцы были на концах продраны и неумело, одиноко, стариковски подшиты толстыми нитками. Так зашивают свои вещи неприятные хмурые холостяки, живущие в прокисших, низких злых меблирашках.
В эту минуту мне стало жалко Петерса.
Газета «Киевское эхо», 13. I. 1919 г.
КИТАЙСКИЕ БУДНИ
ФЕЛЬЕТОН МИХАИЛА КОЛЬЦОВА
«Молельня была поругана кощунственно, обидно, бессмысленно. У одних богов были отбиты головы и руки, другие были совсем сброшены с пьедесталов и валялись на кирпичном полу. Посредине сидел на возвышении гигантский Сакья-Муни.
Видимо, солдат ударил бога ломом в верхнюю часть груди: головы не было, на месте левого плеча и шеи желтели осыпающиеся комки сухой глины и только правая рука была поднята с благословением».
Так описывал Вересаев разгром китайской молельни русскими солдатами во время японской войны.
Это было очень тяжело, страшно. Русские солдаты, посланные воевать на Дальний Восток, грабили нейтральных китайцев, убивали их, опустошали дома и оскверняли кумирни.
Маленькие тихие желтые люди, в жизнь которых ворвалась нелепая грубая сила, молча прятали свои чувства к дальневосточной армии, они называли русских солдат общим нарицательным именем — «Ломайло».
«И мне пришло в голову, — пишет Вересаев, — что среди чудовищно-безобразных китайских богов после нашего ухода появится новый бог, такой же свирепый и безобразный, будет он в косматой черной папахе с чертами русского солдата, и имя этому богу будет — „Ломайло“».
В России тогда очень возмущались жестокостями наших солдат. Жалели пострадавших китайцев и их разгромленные кумирни. Но жалели торопливо, на ходу, одним глазом. Откровенно говоря, было не до того. Шла революция, становилось шумно.
Уже молодой Троцкий говорил в Петербурге речи, уже Трепов не жалел патронов. У Казанского собора разгоняли студентов, а Бальмонт писал социалистические стихи. Все было очень ново, и китайцы со своими кумирнями казались очень несчастными, но не очень интересными. Я не вспомнил бы об этом вовек. Но старая история с китайцами вдруг самым нелепым образом тихо стала вверх ногами. Мы уже не мы. Нет Вересаева и студентов. Нет Трепова, остались одни патроны без Трепова. Вообще нет ничего.
Китайцы тоже стали совсем не китайцами, какими они представлялись нам раньше. Во-первых, они уже не в Китае, а в Москве и даже ближе. Во-вторых, они уже не столь несчастны и никто уже не опустошает их кумирни, а даже наоборот, они что-то серьезно и старательно опустошают.
В-третьих — и в-четвертых и в-десятых…
Вообще, мы, кажется, поменялись с ними местами, как это ни странно вымолвить. Мы, например, полагали, что блага на земле распределены раз и навсегда — Конфуций китайцам, а Троцкий нам. Но и Троцкий какими-то судьбами ушел от нас и попал к китайцам. Что за напасть.
В прежние годы был в общественном сознании такой неопределенный мутный страх: желтая опасность. Что-то далекое и нечеткое. Материал для легких споров после чая. Тема для безработных публицистов в глухое газетное время. Для осуществления желтой опасности нужно было, чтобы «Китай проснулся», «Азия дрогнула», «Молчаливый Восток зашевелился», «Желтые легионы двинулись бы на Европу».
Ничего по-настоящему не проснулось и не зашевелилось. Азия не дрогнула, желтые легионы деловито и спокойно выросли в Москве в купеческом Замоскворечье.
Мне довелось видеть первые китайские советские отряды. Просторные казармы у Воробьевых гор, чисто выметенные полы, ряды винтовок, низко стриженные головы. Короткие фразы команды. Коммунистические воззвания на стенах. Портрет Ленина. Косые глаза. Медленные конфузливо-бесстыдные улыбки на темных лицах. Высокий визгливый азиатский смех. И тщательное долгое умывание, конечно, из крана.