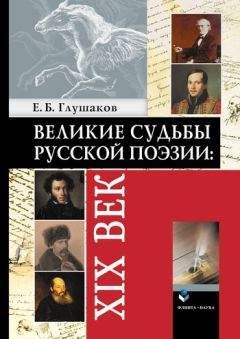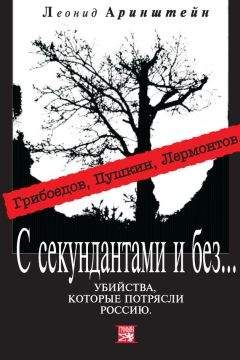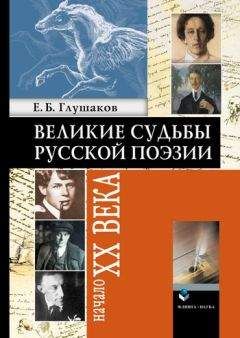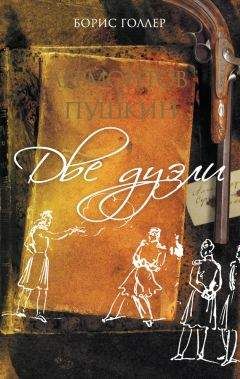В начале 1819 года в журнале «Благонамеренный» появилось несколько стихотворений Боратынского. Представил их к публикации Дельвиг, однако без ведома автора. Тот был удивлён и поражён до чувства почти болезненного. Требовательный к себе, Евгений считал (очевидно, по аналогии с принесением в жертву первородных овнов и агнцев), что «первые свои произведения должно посвящать богам, предавая их всесожжению». Впрочем, и позднее он относился к своему творчеству весьма критично.
МУЗА
Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюблённою толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражён бывает мельком свет
Её лица не общим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.
Но даже в пору дебюта похвалы, адресованные Евгению, отнюдь не были небрежными. Уже по первым публикациям начинающего автора поэт старшей когорты Катенин высказал мнение, что в Боратынском «приметен талант истинный необыкновенной лёгкости и чистоты».
В эту же пору молодой поэт узнал и горечь первой, весьма опрометчивой влюблённости. Предметом его увлечения оказалась Софья Дмитриевна Понамарёва, светская кокетка и хозяйка салона, заметного в Петербурге, посещаемого многими именитыми литераторами.
Он близок, близок день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Не мне роптать; но дни печали,
Быть может, поздно миновали:
С тоской на радость я гляжу, —
Не для меня её сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Всё мнится, счастлив я ошибкой
И не к лицу веселье мне.
Естественно, что со стороны многоопытной красавицы не было глубокого чувства, а только игра, о чём поэт вскоре догадался и охладел к ней, как ему показалось, необратимым образом.
РАЗУВЕРЕНИЕ
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
4 января 1820 года Боратынский был произведён в унтер-офицеры и переведён в Нейшлотский полк, расквартированный в Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи. Увы, это был чин, только предшествующий офицерскому, и прощения за детскую провинность ещё не давал. Более того, назначение в места столь отдалённые весьма смахивало на изгнание. Независимый тон его стихов, дружба с поэтами, раздражавшими правительство своим вольнодумством, всё это вызывало неодобрение царя и мало располагало к монаршей милости. По сути, как раз в ту пору, когда Пушкина отправили на юг России в Кишинёв, Боратынский был сослан на север. Александр Сергеевич, справедливо полагая, что тянущему лямку военной службы ещё хуже, чем штатским, находящимся на беспривязном содержании, сокрушался о друге своём – «бедный Боратынский!» и признавался, что «как о нём подумаешь, так поневоле устыдишься унывать».
Шли годы, а следующий чин, уже офицерский, Евгению Абрамовичу всё не выходил. Получалось, что взрослый человек расплачивался за мальчишескую шалость. Такой уж опасный это возраст – шестнадцать лет. Возраст «с последствиями»!
Как-то случилось, что Боратынский нёс караул во дворце в пору пребывания там императора. Александру Павловичу доложили – кто стоит при его дверях. Он подошёл к Боратынскому, потрепал по плечу и ласково сказал: «Послужи!»
А между тем жизнь в Финляндии для Евгения Абрамовича проходила не впустую. Если для созревания пушкинского гения, учитывая его темперамент, более благоприятствовал юг, то хладнокровной и рассудительной Музе Боратынского, очевидно, был сродни именно север. Отнюдь не справляясь об их желаниях, Промысел Божий каждому из Своих питомцев определил «благо потребное».
Будет час, когда Александр Сергеевич вполне осознает эту особенность своей духовной и физической конституции и напишет: «Но вреден север для меня», осознает и тем не менее погибнет именно там – на севере. А вот Боратынский, вероятно не осознавая, что юг ему противопоказан, будет всю жизнь мечтать о солнечной Италии, чтобы в некий роковой час устремиться туда и скоропостижно умереть.
Впрочем, до этой печальной развязки ещё далеко. Север пока ещё крепко держит его, повязав узами царской немилости. Тут Боратынский формируется как человек, умеющий переносить одиночество, ценить дружбу, умеющий ждать и надеяться. Тут он вырастает в одного из крупнейших поэтов России. Причём первый успех ему принесла элегия «Финляндия», написанная уже в самом начале «северной ссылки». Последующие поэмы «Пиры» и «Эдда» упрочили его славу.
Пушкин, проходящий свою аскезу на противоположном полюсе царского остракизма, с жадностью прочитывал каждое новое произведение своего товарища по несчастью. Выражением его восторга перед мужающим талантом Евгения Абрамовича отмечено письмо, адресованное поэту и критику Вяземскому: «Но каков Боратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни, и Батюшкова – если впредь зашагает, как шагал до сих пор – ведь 23 года счастливцу!» Пушкин ошибся – на тот момент Боратынскому было только 22, но, мысля друга своим сверстником, Александр Сергеевич накинул ему лишний годок.
Для Пушкина всё очевиднее непреходящее классическое значение поэзии Боратынского. Видя, как трудно складывается судьба Евгения Абрамовича, и полагая, что житейские неприятности могут худо сказаться на становлении его таланта, Александр Сергеевич в своём письме к Бестужеву высказывает убеждённость, что правительство обязано всячески ободрять истинных писателей. К таковым, составляющим, по его мнению, гордость отечественной литературы и поддержанным властями Александр Сергеевич относит Державина, Карамзина, Дмитриева, Жуковского, Крылова, Гнедича… «Из не ободренных вижу только себя и Боратынского…», – добавляет Пушкин.
Если люди, неравнодушные к российской славе, радовались успехам Боратынского, ожидали от него могучей плодотворной зрелости, «ободренной» властями, то сами власти относились к «певцу Финляндии» с подозрительностью и, кажется, ничего, кроме крамолы, от поэта не ждали. Даже к «Пирам», невиннейшему произведению его юной музы, цензура приближалась с таким патологическим страхом, что и лояльный Жуковский не мог не возмутиться её тупостью: «Что говорить о новых надеждах, когда цензура глупее старого, когда Боратынскому не позволяют сравнивать шампанское с пылким умом, не терпящим плена?»