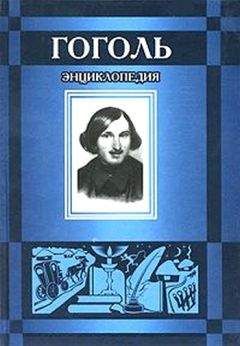13 ноября 1839 г. Гоголь обедал у А. и жаловался на свои финансовые затруднения. По словам А., «его обстоятельства были следующие. Жуковский уверил его, через письмо еще в Москву, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института, по крайней мере, по тысяче рублей. С этой верной надеждой он приехал в Петербург; но она не сбылась, по нездоровью государыни, и неизвестно, когда сбудется. К довершению всего Гоголь потерял свой бумажник с деньгами, да еще с записками, для него важными. Об этом была публикация в полицейской газете, но, разумеется, бумажник не нашелся, именно потому, что в нем были деньги». А. одолжил Гоголю 2000 рублей, которые, в свою очередь позаимствовал у Д. Е. Бенардаки. По мнению А., «Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина. Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им выпуклость и жизнь, восхищались его юмором, комизмом — и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему».
В декабре 1839 г. Гоголь и А. вернулись в Москву. 2 января 1840 г. жена А. Ольга Семеновна с дочерью Верой уехали в Курск, а 3 января, как вспоминал А., «часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр-пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома. Я возвратился домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: „Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить“. Когда подали макароны, которые, по приказу Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и наконец сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, т. е. когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торжественностью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто… В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал; но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на котором, разумеется, играть совершено не умел; но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина. Вот что он говорит в одном своем письме: „Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства!“» А. вспоминал, как весной 1840 г. Гоголь «читал первые главы „Мертвых душ“ у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то. Все слушатели приходили в совершенный восторг; но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления „Ревизора“. „Мертвые души“ только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой-„Американец“ говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что „он — враг России“ и что „его следует в кандалах отправить в Сибирь“».
А. подробно описал отъезд Гоголя в Италию в мае 1840 г.: «Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре. После спектакля он хотел ехать; но за большим разгоном лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18-го мая, после завтрака в двенадцать часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом — на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, т. е. до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том „Мертвых душ“, совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать о России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на дрожки. На половине дороги, вдруг, откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба; сделалось очень темно, а какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца».