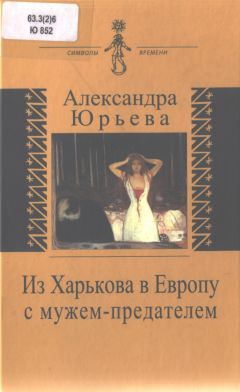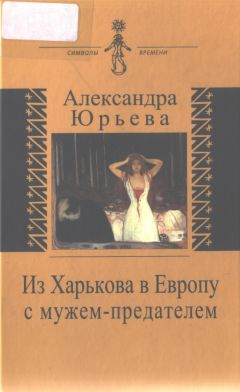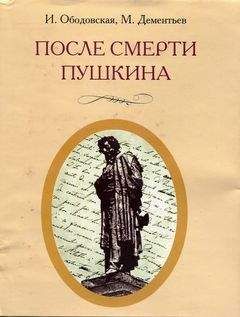Перед лицом тотального ужаса со временем теряется всякая способность мыслить и чувствовать, как прежде. Какой-то внутренний предохранительный клапан автоматически закрывается, и ты подавляешь охватывающую тебя печаль и страх. Я старалась не думать о том, как просто мы с мамой могли погибнуть от голода или болезней. В те годы нужно было прилагать неимоверные усилия для того, чтобы просто выжить. Несколько лет люди жили, питаясь одной только «дробью» — кашей из дробленого ячменя и проса.
Я думаю, что поскольку Видкун увидел мой мир, когда он находился в полной разрухе, то оправданно предполагал, что в будущем ему поверят, когда он попытается представить наш брак как рыцарский шаг и формальное основание для моего отъезда из России. Не существует слов, способных описать отчаяние мамы, которое она, по всей вероятности, испытывала, пытаясь прокормить меня и уберечь от всяческих невзгод. И несмотря ни на что, она все же сумела сделать так, чтобы я чувствовала себя в безопасности и всегда знала, что я любима. Для меня она была центром моей жизни. К тому же у меня были свои друзья, балетные уроки, доступ к богатствам театра (который процветал, несмотря на все наши неурядицы) и, самое главное, школьные занятия.
После того, как наша гимназия закрылась, нам дали нескольких учителей, поэтому мы еще какое-то время продолжали учиться. А потом все другие ученики куда-то исчезли, и осталась я одна. Помню, я ходила домой к очень славной даме, прекрасной учительнице Лидии Александровне. К сожалению, не помню ее фамилии. С ней я занимались русским языком и другими предметами. У моей учительницы еще были видны следы прошлой роскоши: всегда стояли какие-нибудь цветы, когда был сезон, пахло одеколоном, сама она была хорошо причесанная, изящная старуха. В то время изредка, мимолетно попадались еще остатки прошлого.
Пришло время, когда все учебные заведения закрыли, и учиться нам больше было негде. Мы, как ни странно, очень из-за этого горевали, поэтому старались чаще собираться вместе и затевали дебаты, прочитав какую-нибудь книгу. Устраивали суды над героями, спорили, горячились и доказывали друг другу свою правоту. Бывало, собирались гурьбой и шли в прежнюю гимназию посмотреть, что там происходит и кто в ней еще обитает. Картина была такая же, как и у всех нас. В одной из маленьких комнат во всем огромном и пустом здании нашей гимназии ютилась прежняя начальница гимназии. Теперь ее было почти не узнать. Из прежнего громовержца, важной, почти божественно недоступной особы она превратилась в худенькую, слабую, запуганную старушку. Она до такой степени была всем напугана, что сначала даже не могла разобраться в том, что мы ей говорили и что мы были ее питомцами в гимназии. Но, несмотря ни на что, старая закалка великолепной светской дамы в ней не исчезла окончательно, и когда мы стали спрашивать ее, как и чем она теперь живет, она вдруг вся подобралась, подтянулась, и очень вежливым тоном ответила нам по-французски: «Распродаю и меняю на крупу свое, как это теперь называется, э… ле барахло». Слово было новое, рожденное революцией, и так не подходившее этой высокообразованной даме. Даже значения его она точно не знала, потому и перевести на французский не смогла. Думала, что если добавить к нему французский предлог «ле», то оно, само по себе нестерпимо вульгарное, облагородится, и ее достоинства не унизит. А означало это слово любой предмет, подлежащий продаже или обмену.
Когда свирепствовал тиф, болела мама и множество людей вокруг, часто прямо на улице люди падали и замерзали. Многие наши знакомые и преподаватели так погибли, а потом их трупы кто-то куда-то увозил. Бывало, что к нам приходили родственники пропавших или мы их сами навещали, и тогда они нам жаловались: «Как нам отпеть своих покойников, что нам делать, чтобы похоронить их по-христиански?». Удивительно, но у нас, подростков, оставался энтузиазм. Я думаю, молодые люди часто хотят сделать что-нибудь необыкновенное. Мы с Ниной, не отчаиваясь, ходили, доставали адреса тех мест, куда этих покойников отвозили. Я помню один такой громадный амбар, возможно, какой-то заводский склад, в котором сверху донизу были уложенные в штабеля замерзшие покойники. Они лежали ровно, аккуратно, словно дрова. Мы были полны благородных чувств, добрых намерений, хотели помочь другим. Не думали о том, какое получаешь впечатление или что оно остается на всю жизнь. И чем дольше живешь, тем эта картина больше проясняется, приходит понимание всей этой бессмыслицы. Мы ходили туда, искали среди этих покойников своих знакомых, и если находили, то просили кого-нибудь вытащить труп, если это было возможно, и на салазках привозили его домой к родственникам.
Вот такой была наша детская жизнь — мрачная, дикая, страшная и отвратительная. А еще была наша молодость, флирт и веселье. Девочки оставались прежними — могли петь, смеяться, сплетничать и даже заниматься с оставшимися учителями. Мы очень много читали, книги брали в частных библиотеках, так как почти все библиотеки были разграблены. В библиотечных коридорах книги были свалены грудами, брать их оттуда можно было только через знакомых. Потом все снова стало налаживаться. Книги были расставлены на полках, и опять их можно было получать только по абонементу, но домой их не разрешали брать.
Мама с Валентиной Ивановной Кедриной скопили немного денег и купили крупы. Привезли домой, приобрели большую железную бочку, которую дворники ставили под водосточные трубы, когда шел дождь, чтобы туда стекала вода. Дома мама наварила каши из этой крупы, а утром, по морозу, на салазках потащила на базар. У нас остались детские поломанные саночки, которые мама с Валентиной Ивановной как-то починили. На них они установили свою большую бочку, хотя на самом деле она была не такой уж большой, может быть, фунтов на десять, но казалась громадной, потому что они не смогли сварить столько каши, чтобы наполнить ее полностью, да и достать такое количество крупы было невозможно. Эти две пожилые дамы, которые ничего до революции не делали, никаким физическим трудом не занимались, ходили на базар в каких-то отрепьях, в туфлях на босу ногу, обмотанные какими-то веревками, и продавали эту кашу ложками. К ним подходили с тарелками или чашками. Не знаю, сколько стоила каждая ложка, но это не имело значения, потому что деньги обесценивались настолько быстро, что на следующий день на них уже ничего нельзя было купить. Однажды моя мама и Валентина Ивановна отправились на базар, а поскольку обе были тоненькие, худенькие, они поскользнулись на горке, упали, и вся эта каша вывернулась на снег. Это была ужасная трагедия. Санки поломались, и их товар пропал. Я не помню, за что они взялись после этого. Ходили, что-то меняли на ломтик хлеба или на другую еду, приносили ее домой и кормили нас. Что она на базаре выменивала, я точно не помню. Там над ними все смеялись. Даже в те смутные трагические времена люди пытались все перевести в шутку, может, иногда грубую и издевательскую, но все хохотали, что какие-то барыни берутся за коммерцию, стараются что-то продать! Мама еще возила в ближайшие деревни свои вещи, например, золотые безделушки и т.п., и там их меняла. Что они только ни делали, лишь бы прокормить нас. Это уже было после войны, но еще до прибытия в Харьков белых в 1918 году, потому что я и мама работали у белых, пока они занимали город. Мама просто продавала свои вещи, и на это мы жили, а позже она работала в солдатском госпитале, в котором прикармливали и меня, и маме давали какую-то еду. О том учреждении у меня остались неприятные воспоминания, но не из-за солдат, а, напротив, из-за врачей.