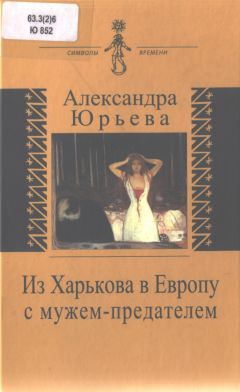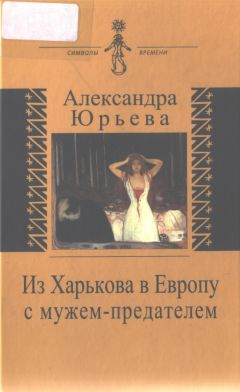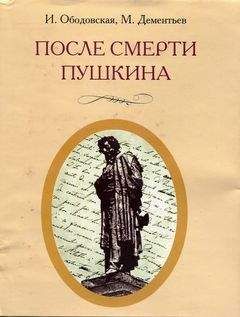Наклонившись радостно над мамой, я увидела, что ее лицо уже не было пугающе черного цвета, но оно показалось мне неестественно маленьким с глубоко провалившимися глазами. Она лежала совершенно спокойно, вытянувшись во всю длину. Я встала на колени и, боясь ее потревожить, тихонько склонилась над ней. Мама подняла на меня глаза, совершенно осмысленно посмотрела на меня, и вдруг вместо обычного маминого ласкового взгляда я увидела на ее лице отвращение. Она как будто увидела что-то страшно надоедливое и противное, потом вздохнула и отвернула голову к стене. Я ужасно растерялась. На все мои вопросы мама не отвечала, и так и не повернула ко мне голову. Обратиться здесь было не к кому.
Скрепя сердце, я решила вернуться домой и попытаться увидеть доктора, который привез ее сюда вечером. Еще раз попробовала сказать маме, что бегу домой, что приведу с собой доктора, что ей скоро будет лучше, и она вернется домой. Хотелось ее хоть чем-нибудь ободрить, вызвать улыбку или просто интерес к тому, что я здесь с ней. Но от моего шепота мама еще больше съеживалась и глубже засовывала голову под подушку. Подушка была без наволочки, из ее разорванного угла вылезала солома. Я поправила подушку под маминой головой так, чтобы она не поцарапала свои щеки о жесткую солому. В тот момент очень страшным показалось то, что цвет подушки был ярко-кумачового цвета, который так не подходил к этой безнадежно-серой обстановке. Из такого материала в самом начале революции шили красные флаги, а иногда просто кусок такого кумача прибивали к древку, и шли с ним завоевывать «новую жизнь». Поэтому мы особенно ненавидели этот цвет. Нам он казался наглым, вульгарным, приносившим лишь горе и несчастья. Именно здесь, больше чем в любом другом месте, он производил наиболее гнетущее впечатление, поскольку эта больница являлась сосредоточением человеческих страданий и боли.
Я вышла во двор. Солнце уже стало спускаться за горизонт. Было далеко за полдень, а я и не заметила, что пробыла в больнице несколько часов. От голода сосало под ложечкой, я еще ничего в этот день не ела, так же, как и мама, что меня ужасно беспокоило. В те времена я была уверена, что если хорошо покормить любого больного, от этого он тотчас начнет выздоравливать. Мне нужно было достать какую-нибудь еду для мамы — это стало для меня сейчас самым важным. Путь домой показался еще длиннее, чем утром. Несмотря на календарную весну, зима не сдавала свои позиции. Пошел сухой снег, резкие порывы ветра гнали его из стороны в сторону.
У меня во рту был горький полынный вкус. Есть больше не хотелось. Болела голова, и немного тошнило. Казалось, что я никогда не дойду до дома. Улицы, как обычно в последнее время, были почти пустынны. Только иногда возникали фигуры неопределенного пола, закутанные с ног до головы всякого рода тряпьем, которые, даже не глядя по сторонам, быстро удалялись и вскоре исчезали из вида. Некоторые из них тащили за собой салазки или просто ящик, к которому были приделаны полозья из простых деревянных палок. Ничего необычного в этих людях, встречавшихся мне по дороге, не было. Картина была давно знакомая.
Больше не поражало отсутствие в повседневной жизни животных. Ни у кого теперь не было в доме ни кошек, ни собак. На улицах сейчас уже не встретишь лошадей. Прежде в каждой семье обязательно был любимый кот или самая красивая собака на свете. А теперь никто даже не упоминал о животных. Было ужасно стыдно за то, что люди, эти высшие существа, не могли защитить милых, верных друзей своих, которые доверяли им столько столетий. Все они погибли, но люди делали вид, что забыли об этом, оправдывая себя тем, что куда уж тут думать о своих питомцах или стараться спасти их, когда столько людей гибнет от голода. Но это неправда, как можно было забыть, например, нашего любимого члена семьи, толстого, ленивого серого кота Караима? Сколько себя помню, столько помню Караима, как лежал он, бывало, целыми днями, развалившись на пианино. Даже когда играешь гаммы, он не обращает внимания, лежит себе, как будто ничего на свете не может потревожить его или разбудить. Нашу таксу, Тетрадь, он презирал и нисколько не боялся. Бывало, она часами простаивала возле пианино, тихонько лаяла и вызывала кота на бой, но тот только иногда поведет глазами, зевнет и, презрительно отвернувшись, опять заснет. Такса была очень похожа на тетрадь — блестящую, клеенчатую, свернутую в трубочку. Она была черная, с лоснящейся красивой шерстью, дружбу свою она навязывала нам постоянно и восторженно. Как таких друзей забыть? Лучше о них и не говорить. Она, попав в беду, даже не умела бороться. Всецело полагалась на людей. Из-за этого и погибла.
Я совсем не верила в возможность хорошего ухода за больными в этом ужасном месте. Но пришлось положиться на доктора, другого выхода у меня не было. «Вот насчет еды — это труднее, — сказал он. — Там больных не кормят, сами все голодные ходят». Как будто я сама этого не знала! «Но об этом тебе тоже не стоит беспокоиться, еду для нее я достану. Гувер, милый человек, теперь помогает нам». Именно тогда я в первый раз услышала это магическое имя — Гувер. Для меня в тот момент оно было просто пустым звуком. После этого вечера я часто стала слышать имя г-на Гувера. Вскоре для меня и для всех, кого я знала, это имя стало близким и бодрящим, как молитва. Сколько людей спас в то время г-н Гувер, я не знаю, но то, что он спас мою мать от верной смерти, это я знаю точно, и буду помнить это всю свою жизнь.
С тех пор прошло не меньше тридцати пяти лет, и я позабыла многих своих самых близких друзей того времени. Помню хорошо только тех, кто был близко связан с организацией «Помощь голодающим». Получить что-то из-за границы напрямую у нас с мамой не было возможности. За пределами России у нас не было ни друзей, ни родственников, но это не мешало нам время от времени получать что-нибудь из этих великолепных пакетов от людей, которым их присылали из Америки. Так случилось и в первый раз, когда наш старенький доктор впервые упомянул имя Гувера в тот далекий, такой памятный мне вечер. У него тоже за пределами России никого не было. Сам он посылок не получал, но знал, у кого можно было кое-что получить. На следующее утро он принес мне плитку шоколада, велел варить из нее напиток и каждый день относить его маме в больницу. «Не бойся, я еще достану», — говорил он, когда я с ужасом спрашивала, что делать, если этой плитки не хватит. Когда я отнесла в больницу первую бутылку, меня постигло ужасное разочарование, поскольку, как я позже узнала, маме ничего не досталось — кто-то отобрал у нее этот шоколад, и она так его и не попробовала. Вокруг нее было столько голодных людей, включая всех, кто работал в больнице, что такая пропажа меня удивить не могла. Просто нужно было что-то такое придумать, чтобы никто не мог отбирать у нее эти бутылки.