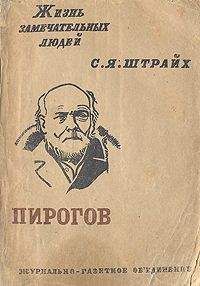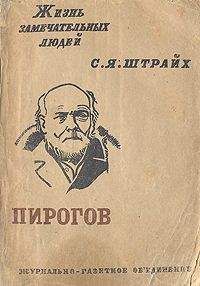Пирогов решил воспользоваться свободным временем для поездки в Москву. По бедности пришлось ехать с крестьянином, привезшим какую-то кладь в Дерпт и возвращавшимся в Москву порожняком. Путешествие было с приключениями: один раз крестьянин чуть не утопил ночью и Пирогова, и себя, и лошадь; в другой раз Николаю Ивановичу пришлось выскочить из телеги при переезде через какую-то речонку и по пояс в воде пробираться на берег. Дотащились через две недели до Белокаменной.
Н. И Пирогов
(1833 г.)
Снимок с портрета работы художника А. Д. Хрипкова, жившего в Дерпте в годы учения Пирогова
Отвыкший от отечественных нравов Пирогов с изумлением присматривался теперь к представителям разных слоев русского общества. Сильнее всего поразила молодого доктора отсталость бывших его учителей — профессоров Московского университета, которых он теперь мог судить с точки зрения приобретенных в Дерпте научных знаний и общественных навыков.
Когда Пирогов рассказал одному профессору о знаменитом рефракторе Дерптской обсерватории, в то время едва ли не единственном в России, его бывший учитель равнодушно отозвался: «Я, призваться, не верю во все эти астрономические забавы; кто их там разберет, все эти небесные тела». Профессор хирургии Альфонский в беседе о перевязке больших артерий заявил: «Знаете что, я не верю всем этим историям о перевязке подвздошной, наружной или там подключичной артерии: бумага все терпит».
Толкнулся Пирогов в чиновничью и офицерскую служилую среду. Пришел навестить старого знакомого — сослуживца отца. Нашел там других офицеров. Слово за слово, перешел к рассказу о преимуществах Прибалтийского края. Прежде всего описал слушателям высокое состояние науки, отставшей в Москве по крайней мере на четверть вежа. «Позвольте вам заметить, — остановил молодого ученого толстейший гарнизонный майор: — я лечился у разных докторов, везде побывал, советовался с разными знаменитостями, но толку не было; а вот у нас в Москве мне один старичок посоветовал принять. лекарство Леру. Так я вам скажу, оно меня так прочистило, что все, что во мне лет десять уже скопилось, наружу вывело; с тех пор, как видите, здравствую». Возражать было трудно.
Перешли к семейной и общественной жизни. Николай Иванович стал распространяться о превосходных сторонах общества и семьи в Прибалтийском крае и три этом упомянул с похвалой о немецких женщинах. «Замечу вам, — прервал его хозяин, — я достаточно знаком с женским полом. Имел на своем веку дело и с немками, и с француженками, с цыганками. Большого различия не нашел: все поперечки». При этом замечании все общество покатилось со смеху, а Пирогов умолк и поспешил оставить неподходящую для него компанию.
Не лучше было и в помещичьей среде — в этом первенствующем сословии, государства.
Будучи в Москве, Пирогов сходил посмотреть предмет своих полудетских, полу-юношеских воздыханий — Наташу Лукутину. Теперь она не произвела на молодого доктора того чарующего впечатления, как в годы его московского студенчества. Да и сам он, по собственному признанию, порастерял в обстановке дерптской жизни скромность и целомудрие, делавшие для него поэтически привлекательными голубые глаза и эфирную поступь нежной блондинки. Заговорить теперь с Лукутиной языкам любви — значит сделать предложение, а человеку, избравшему своим идеалом служение науке, нельзя связывать себя семейными узами. Это успеется.
Блестяще защитив осенью 1832 г. в Дерпте докторскую диссертацию, Пирогов мог, наконец, отправиться за границу, но царь все еще боялся пускать своих «природных россиян» в мятежную Европу. Профессор Паррот старался убедить Николая I в том, что от поездки будущих профессоров за границу русский государственный строй не пострадает. «Конечно, — писал он, — позволяя путешествие сего рода, можно и должно принимать в рассуждение и события политические; но мне кажется, что и в этом отношении более доводов в пользу путешествия, чем против оных, ибо отказ в желании, которое столь близко их сердцу и было сначала пробуждено в них, скорее может оставить в них чувствование печали и недоверчивости к правительству, нежели питать истинную любовь к отечеству, — слава богу! — живо ощущаемую большею частию из них. Полагая даже ничтожными для ученого образования, чего однако нельзя сказать и об одном, — довольно того, что они сами увидят прославляемые чужие страны, удовлетворят желание, непреодолимое по духу времени, и будут иметь случай заглянуть за кулисы идеально украшенного представления. Сколько я знаю сих молодых людей, все это может произвести только хорошее следствие: напротив того, не побывав в чужих краях, они только расцветят живейшими красками воображения свои обманчивые мечты. Уже и по сей единственной причине должен я, как верный подданный, желать, чтобы эти молодые люди выдержали испытание я сего рада и, приобретя как сию пользу, так и другие вещественные выгоды для их общего образования, возвратились с твердейшими еще правилами и чувствами любви и верности к государю и отечеству».
В 1833 г. царское правительство решилось наконец отпустить молодых ученых за границу. В мае выехали в Берлин Пирогов и другие дерптские кандидаты, среди них Ф. И. Иноземцев.
Министр императора Николая принял все меры к тому, чтобы будущие русские профессора не заразились на Западе тлетворным политическим духом.
Архиатер (главный врач) принца Кумберленского, председатель берлинского общества трезвости, директор частной глазной клиники, профессор гигиены Фридрих-Вильгельм-Георг Крамихфельд вдобавок ко всем этим званиям имел еще звание придворного врача русского императора; кроме того, он был гомеопатом и мистиком. Русский министр народного просвещения, кавалерийский генерал Ливан тоже был мистиком. Кому же лучше всего вверить природных россиян, посланных в Берлин для подготовки ас профессуре, как не Кранихфельду? Кто лучше Кранихфельда оградит их от развращающего влияния революционных идей, охвативших Западную Европу?
Русскому послу в Берлине графу Рибопьеру предписали поговорить с Кранихфельдом, выяснить, согласен ли он взять на себя надзор за русскими молодыми учеными. Пока велись переговоры, Князя Ливена сменил на посту министра Сергий Семенович Уваров, подтвердивший поручение своего предшественника. Кранихфельд с восторгом согласился и прислал подробную программу своей деятельности.
Особенно радовал лютеранского профессора первый пункт данного ему министром наставления, по которому он должен был заботиться «о сохранении сих молодых людей в вере к религии Иисуса Христа в духе греко-российской церкви». Этот пункт, по мнению Кранихфельда, будет иметь такое сильное влияние, что он «не в состоянии этого выразить», и обещает Уварову постараться, чтобы «любовь к богу присутствовала во всякое время в сердцах» порученных ему молодых людей: «Они сделаются, — увернет мистический гомеопат, — верными подданными их освященного богом государя, прекрасными учителями, благотворительными гениями для целого народа».