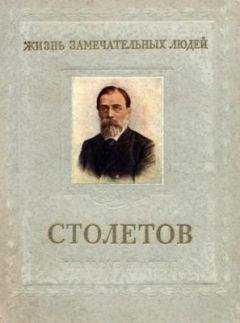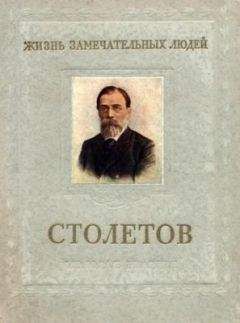Смело выступают в защиту крестьян революционные демократы во главе с Чернышевским и Добролюбовым. Они публикуют прокламации: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», «К молодому поколению», призывают крестьян готовиться к восстанию против царя и помещиков.
Передовые русские люди не складывают оружия. Резкие протесты, смелые выступления следуют одно за другим.
Десятки губерний охвачены массовыми крестьянскими волнениями, в Москве распространяются революционные прокламации.
Общественное движение захватывает и университеты.
Царское правительство отвечает на студенческие волнения усилением реакционного курса в области просвещения. Министр народного просвещения Путятин объявляет новые гонения на университеты. И студенты снова выступают с протестом — они не хотят мириться с правилами Путятина, запрещающими студенческие организации, сходки, отбирающими у студентов многие льготы.
Студенческое движение приобретает явно политический характер.
Эти годы всеобщего недовольства, годы революционного подъема, сформировали характеры многих русских людей.
В это время в Петербурге встал в ряды студентов-забастовщиков молодой Климент Тимирязев, впоследствии лучший друг Александра Григорьевича Столетова.
«В наше время, — вспоминал Тимирязев, — мы любили университет, как теперь, может быть, не любят… Для меня лично наука была все. К этому чувству не примешивалось никаких соображений о карьере… Но вот налетела буря в образе недоброй памяти министра Путятина с его пресловутыми матрикулами[9]. Приходилось или подчиниться новому полицейскому строю, или отказаться от университета, отказаться, может быть, навсегда от науки, — и тысячи из нас не поколебались в выборе. Дело было, конечно, не в каких-то матрикулах, а в убеждении, что мы в своей скромной доле делаем общее дело, даем отпор первому дуновению реакции, — в убеждении, что сдаваться перед этой реакцией позорно».
Тимирязев, как и многие другие студенты, был исключен из университета.
Чтобы прекратить студенческие беспорядки, царское правительство прибегает к помощи полиции. «К польской и крестьянской крови присоединилась кровь лучших юношей Петербурга и Москвы», — писал Герцен в «Колоколе». Избиение студентов вызвало протесты всей прогрессивно настроенной интеллигенции.
В условиях общественного подъема правительство побоялось продолжить начатый реакционный курс в области просвещения.
Правительство соглашается пересмотреть университетский устав.
Чутко прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг, Столетов в эти годы серьезно и упорно готовился к научной деятельности.
Десятки тетрадей исписывает он своим четким почерком, изучая богатство, накопленное современной ему физикой. И чем больше он узнает, тем яснее ему становится, сколько еще белых пятен в его любимой науке, сколько неясного, а порой и неверного.
Знания накапливаются быстро. Ко времени, когда из министерства народного просвещения наконец-то пришло разрешение оставить Столетова при университете — этот документ датирован 5 сентября 1861 года, — юноша почти полностью прошел программу, необходимую для сдачи магистерского экзамена.
Уже 16 октября того же года Столетов подает прошение ректору. «Желая получить степень магистра физики, — пишет он, — покорнейше прошу Ваше превосходительство допустить меня к устраиваемому испытанию».
Читая книги, изучая то, что сделано другими, Столетов все острее сознает односторонность своего образования. Он, хорошо уже изучивший теорию физики, еще не поставил ни одного серьезного опыта. Надо учиться экспериментаторскому мастерству. Но как это сделать? У него попрежнему нет приборов. Ему не на чем учиться.
К концу второго года магистрантства Столетова его друзья профессора Сергей и Константин Рачинские пожертвовали университету стипендию для командировки на два года за границу достойного лица. Кафедра физики представила кандидатом на эту стипендию Александра Григорьевича Столетова.
Столетов соглашается уехать в командировку. Он решает пока что отложить работу над магистерской диссертацией. Торопиться с получением ученой степени? Некоторые торопятся, — ведь степень дает всяческие выгоды. Но эти соображения не для Столетова. Какая радость в степени, если, не овладев искусством физического эксперимента, все равно будешь ощущать неудовлетворенность собой?
Столетов считает, что полезней будет воспользоваться сделанным ему предложением, — ведь он сможет работать в лабораториях.
Летом 1862 года молодой ученый отправился в первое зарубежное странствование.
Описывая один из университетских городов Германии — Геттинген, Генрих Гейне беспощадно высмеял насквозь пропитанных бездушным и мертвящим педантизмом профессоров, компиляторов, стряпающих еще одну никому не нужную книгу из десяти других, мещанскую ограниченность, необычайную узость этих кропателей науки. «Число геттингенских филистеров, — сокрушенно писал Гейне, — должно быть очень велико; их так много, как песку, или, лучше сказать, как грязи в море, и право, когда утром я вижу их стоящими перед дверьми университетского суда, с их грязными лицами и белыми счетами в руках, то едва понимаю, как бог мог сотворить стольких бездельников».
В среде немецких ученых и в годы, когда Столетов приехал в Германию, встречалось немало именно таких псевдоученых, портреты которых дал Гейне.
Эти люди, конечно, были чужды Столетову, с его живым и пытливым умом. Но в Германии были и настоящие ученые, люди творческих исканий, люди смелой мысли.
Многие из них жили в Гейдельберге, тогдашнем крупном научном центре Германии.
Вспоминая о пребывании в Гейдельберге, К. А. Тимирязев писал: «В самый разгар дня в послеобеденные часы (после раннего патриархального обеда доброго старого времени) там, за Неккаром, на повороте дороги, с которой открываются такие чудные виды на единственные в своем роде развалины замка и которая на этот раз оправдывала свое прозвище Philosophen weg'a (дороги философов. — В. Б.), можно было нередко встретить стройную, с несколько военной выправкой, с неизменно заложенными за спину руками, задумчивую фигуру». Это совершал свою прогулку знаменитый естествоиспытатель Гельмгольц.
В Гейдельберге жил и Роберт Бунзен. «Прогуливаясь после заката по Рорбахскому шоссе, — писал Тимирязев, — с одной стороны прижавшемуся к веренице холмов, а с другой стороны обвеваемому ночной прохладой с равнины, расстилающейся вплоть до воспетого Тургеневым Швенингена, вы могли ожидать, что из надвигающейся мглы перед вами вырастет высокая, плечистая фигура, с сверкающим в самом углу рта окурком сигары».