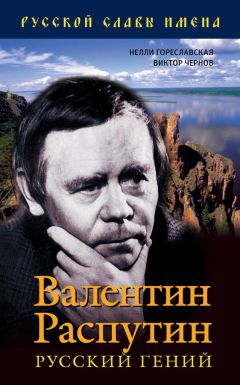Все это происходило на моих глазах. Действительно трагическое зрелище, когда идешь вечером по Ангаре, по Илиму (это река, которая впадает в Ангару), и видишь, как эти крепкие деревни горят в темноте. Это было зрелище, которое останется в памяти навсегда.
«Прощание с Матерой» – эта работа была для меня главной, ни рассказы, ни другие повести. Для этой повести я, может быть, и был нужен…
Я не назад зову. Я зову к сохранению тех ценностей и традиций, всего того, чем жил человек. Моя деревня, например, когда ее перенесли, стала леспромхозом. Делать там было больше нечего, только лес рубить. Лес рубили и рубили неплохо. Поселок был большой, не из бедных. Занятие ведь влияет на человека. Хорошо зарабатывали, и все как бы ладно, но пьянка была жуткая, такой сейчас даже нет. Это были 70-е – 80-е годы. Только вырубать лес, зарабатывать на этом – все-таки это не божеское дело. Меня тогда это поразило и заставило писать.
Видимо, нам в России жить хорошо не надо, чтобы оставаться людьми. Не надо богатства, не нужно быть богатым. Есть такое слово – достаток. Есть какая-то мера, при которой мы остаемся в своей нравственной сохранности».
В этих словах писателя слышны горечь и разочарование, боль за свой народ, за свою родную землю. Он, как и его героиня Дарья, защищает не старую избу, а Родину, как у нее, болит сердце и у Распутина: «Как в огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет». Как точно отмечал критик Ю. Селезнев: «Название острова и села – Матёра – не случайно у Распутина. Матёра конечно же идейно образно связано с такими родовыми понятиями, как мать (мать – Земля, мать – Родина), материк – земля, окруженная со всех сторон океаном (остров Матёра – это как бы «малый материк»)». Для автора, как и для Дарьи, Матёра – воплощение Родины.
Если в «Последнем сроке» или в «Живи и помни» еще можно было говорить о «трагедии отдельно взятой крестьянской семьи», то в «Прощании с Матёрой» автор такой возможности критикам не оставил. Гибнет крестьянский материк, целый крестьянский мир, и именно это приходится обсуждать критикам. Впрочем, они попытались сгладить остроту проблемы и обвинить автора в «романтизации и идеализации патриархального мира», в котором, некоторые критики видели лишь консервативные и отрицательные качества. А. Салынский оценивал проблематику повести как «тривиальную» (Вопросы литературы. 1977. № 2), В. Оскоцкий отмечал желание Распутина «из коллизии все-таки не трагедийной любой ценой «выжать» трагедию» (Вопросы литературы. 1977. № 3), Е. Старикова заметила, что Распутин «более жестко и менее гуманно, чем раньше, разделил мир своей повести на «своих и чужих»» (Литература и современность. М., 1978. Сб. 16. С. 230). Острота поднятых писателем вопросов вызвала на страницах «Литературной газеты» дискуссию «Деревенская проза. Большаки и проселки» (1979, сентябрь-декабрь).
А. И. Солженицын писал по этому поводу: «Это прежде всего – смена масштаба: не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие – не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже ещё огромней: какой-то неведомый поворот, сотрясение – расставание и для нас всех. Распутин – из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами.
От первой страницы повести мы застаём деревню уже обречённой к уничтожению – и сквозь повесть это настроение нарастает, звучит как реквием – и голосами народа, и голосами самой природы и человеческой памяти, как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с островом, растянутое умирание, режущее сердце.
Вся ткань повести – широкий поток народного поэтического восприятия. (На её протяжении изумительно описаны, например, разные характеры дождей.) Сколько чувств – о родной земле, её вечности. Полнота природы – и живейший диалог, звук, речь, точные слова. И – настоятельный у автора мотив:
Раньше совесть сильно различали. Ежели кто норовил без её – сразу заметно. А теперь – холера разберёт, всё смешалось в одну кучу – что то, что другое. Мы теперя так и этак не своим ходом живём. Люди про своё место под Богом забыли.
Пришли пожогщики, «набежники из совхоза», и жгут одно за другим, что пустеет. Гигантское царь-дерево Листвень, отметный знак всего острова, – только он оказался неповалимый и несжигаемый. Сжигают – «мельницу христовенькую, сколько хлебушка нам перемолола». Вот – часть домов уже сожжена, а остальные «как вжались в землю от страха». Последняя вспышка прежней жизни – дружная пора сенокоса, любимая деревенская пора. «Все мы – свой народ, из одной Ангары воду пили». А теперь это сено – через Ангару, и скирдовать около многоэтажных неживых домов для бесприютных коров, обречённых под нож. Прощание с деревней, растянутое во времени, одни уже переехали и приезжают навещать остров, другие – держатся на месте до последнего. Прощаются с могилами родных, пожогщики дико налетают на кладбище, стаскивают в кучу кресты и жгут. Старуха Дарья, готовясь к неизбежному сожжению своей избы, – белит её насвежо, моет полы и набрасывает на пол травы, как под Троицу: «Сколько тут хожено, сколько топтано». Для неё отдать избу – «как покойника в гроб кладут». А заезжий внук Дарьи – отчуждён, беспечен к смыслу жизни, уже давно оторван от деревни. Дарья ему: «В ком душа, в том и Бог, парень». «А что душу свою потратили – вам и дела нету». – Теперь узнаётся: изба, если её не трогать, сама по себе горит два часа – но ещё многие дни тоскливо курится потом. А и после сожженья избы – Дарья не в силах уехать с острова, ещё с двумя-тремя старухами ютится в негодном бараке. И так – перепущен срок отъезда. Сына Дарьи на катере посылают ночью снять стариков – а тут налегает такой густой туман, какого в жизни они не видели, и найти на Ангаре знакомый остров уже не могут. Этим и оканчивается повесть – грозным символом как бы нереальности нашего бытия: существуем ли мы вообще?»
Гибнет целое поколения, поколения хранителей вековых народных устоев, традиций, без которых не может существовать народ. Звучащие уже в «Последнем сроке» темы расставания с поколениями людей, живших и трудившихся на земле, прощания с матерью-прародительницей, с миром праведников, трансформируются в сюжете повести «Прощание с Матерой» в миф о гибели всего крестьянского мира. На «поверхности» сюжета повести – история затопления расположенного на острове сибирского села Матеры волнами «рукотворного моря». В противоположность острову из «Живи и помни», остров Матера (материк, твердь, суша), постепенно уходящий на глазах читателей повести под воду, – символ земли обетованной, последнее пристанище тех, кто живет по совести, в согласии с Богом и с природой. Доживающие свои последние дни старухи во главе с праведницей Дарьей отказываются переселяться в новый поселок (новый мир) и остаются до смертного часа охранять свои святыни – крестьянское кладбище с крестами и царственный листвень, языческое Древо жизни. Лишь один из переселенцев – Павел – навещает Дарью в смутной надежде прикоснуться к истинному смыслу бытия. В противоположность Настене он плывет из мира «мертвых» (механической цивилизации) в мир живых, но это – погибающий мир. В финале повести на острове остается только мифический Хозяин Острова, отчаянный крик которого, звучащий в мертвой пустоте, завершает повествование.