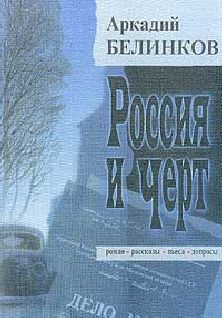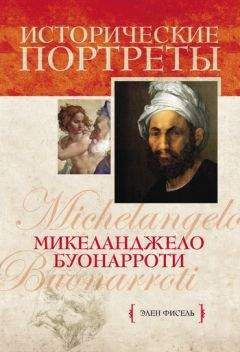"Ничего не удавалось - отовсюду его выталкивало". Жизнь не пускала осесть на месте. Он стал уставать от скитаний по большим дорогам.
Из Минска в Слоним, из Слонима в Венгров, из Венгрова в Ливо, из Ливо в Варшаву трясется в лубяном возке, запряженном парой лошадей, человек, который знал, что "он должен сгореть", что "он должен погибнуть, но так, чтобы жизнь стала после, в тот же день другая", человек, который перед этим совершил самое важное и самое короткое из всех своих путешествий: с Исаакиевской на Петровскую площадь.
На Петровскую площадь его привели не случайность, не обреченность, не судьба и не минутное увлечение.
Путешествия Кюхли начались давно.
Первое свое путешествие он совершил, когда ему было тринадцать лет, и толкнула его в путь верность клятве, которую он дал. Путешествие оказалось коротким и неудачным. О неудаче он будет помнить долго.
Кончен лицей. Кюхельбекер в Петербурге.
Снова пришла пора уезжать. Потому что его гнали нищета и насмешки, потому что начала болеть грудь и стало глохнуть правое ухо, потому что от тоски и отчаяния он перестал посещать службу, отказался от журнальной работы и запустил уроки.
Он уезжает в Европу. Глава, в которой говорится о том, что пришла пора уезжать, заканчивается скорбной строкой о "новом изгнании". Но следующая глава называется "Европа" и начинается словами: "Свобода, свобода!"
Перед отъездом он написал в альбом женщины, которую любил и которая его обманула, несколько слов о себе: "Человек этот всегда был недоволен настоящим положением, всегда он жертвовал будущему..."
А в то время, когда он путешествовал по Европе, император Александр получил крайне неприятную записку. Записка была от человека, которого император "не очень любил", но которого очень любил его брат Николай. Она была написана молодым генералом, пленявшим женщин добротой, сиявшей в его голубых глазах. Звали молодого генерала Александр Христофорович Бенкендорф. В записке с раздражающими подробностями было рассказано о том, что "завелось в России какое-то весьма подозрительное тайное общество". "Общество... было откровенно разбойничье, политическое, с очень опасными чертами, с какими-то чуть ли не карбонарскими приемами..." Карбонарских приемов император терпеть не мог. Кроме прочего, в записке был упомянут некий Кюхельбекер, "молодой человек с пылкой головой, воспитанный в лицее". Император вспомнил: тот самый, о котором писал министру внутренних дел Кочубею полусумасшедший Каразин, приводя возмутительные стихи этого немца.
Возмутительные стихи были такие:
В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала.
Император записал: "Кюхельбекер. Поручить под секретный надзор и ежемесячно доносить о поведении".
Этот человек оправдал ожидания: через пять лет он совершил свое самое короткое и самое важное путешествие: с Исаакиевской на Петровскую площадь.
Молодой человек с пылкой головой путешествовал по Европе.
В Европу его, конечно, не следовало пускать.
Он действительно не заставил себя долго ждать. Приехав в Париж, он выступил с публичными лекциями по русской истории. "Свобода мнений... в которой рождалась гражданская истина, уступила место единой воле, - заявил он, - что могло последовать вслед за этим? Казни, ссылки, раболепное молчание всей страны, уничтожение духа поэзии народной, связанного неразрывно с вольностью..."
Он говорил "о деспотизме русских государей, коварном и насмешливом, налагающем свою руку исподволь на все вольности древних русских республик...".
И чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что это не только история, а древнее проклятие, тяготеющее над Россией, он закричал: "О, какая ненавистная картина! Как близка она к нам и посейчас, хотя несколько веков отделяют рабство новгородское от рабства нашего".
Человек, долго изучавший угнетенные страны, "друг Анахарсиса Клоотца, оратора рода человеческого", дядя Флери, знавший, что, "пока жив хоть один тиран, свобода не может быть обеспечена ни для одного народа", внимательно слушал Кюхельбекера.
Он знал, что "в России не народ убивал тиранов, а тираны спорили между собою. Там было рабство". Книга дяди Флери о всемирной революции была строгой и точной: она состояла из аксиом, лемм, теорем. В этой книге теорема отдела II за № 5 была не дописана: Россия для автора оставалась загадкой. Он рассуждал так: тело революции - рабы. Телу необходима голова. Этой головы в России дядя Флери не видел. Поэтому он так внимательно следил за всеми известиями из России.
Лекции молодого русского профессора и поэта не только произвели на него большое впечатление, но и вселили надежду. Когда кончилась последняя лекция, он пригласил Кюхельбекера в кофейню, а потом проводил его домой. Глядя ему вслед, он с огорчением произнес:
- Нет, это не то. Это еще не голова. Он подумал и прибавил с удивлением:
- Но это уже сердце.
А голова Кюхельбекера "была похожа на голову его друга, Анахарсиса Клоотца, оратора человеческого рода, - Флери вспомнил, как палач поднял ее за волосы".
Так становится ясным, что ждет умного, честного, ненавидящего тиранию человека в самовластной, самодержавной стране.
Пройдет год, и его друг Александр Сергеевич Грибоедов скажет ему: "...тебе надобно немного остыть. Не то... тебя в колодки успеют посадить". Человек, который ненавидит рабство и тиранию, лицемерие и несправедливость, должен кончить на плахе или на каторге. Тем более если у человека есть сердце, если он "не выносит, когда человека бьют", если он страдает от "нашего позора, галерного клейма нашего, гнусного рабства", если он живет в стране, где "рабство, самое подлинное, уничтожающее человека, окружало его", в стране, "где раб и льстец одни приближены к престолу".
* * *
В эпоху между Отечественной войной 1812 года и восстанием 14 декабря происходит резкое обострение общественного самосознания. Наиболее радикальная часть русского дворянства подвергает привычные социальные взаимоотношения решительному пересмотру. Социальные нормы проверяются естественными. Человеческие взаимоотношения, которые стали проверять естественностью, а не исторической традицией, оказались нелепыми. Самым нетерпимым было необъяснимое с позиций естественного права владение одних людей другими. Это владение основывалось на исторической традиции и охранялось силой. Историческая традиция была признана незаконной, а силе были противопоставлены тайные общества, готовящиеся ее уничтожить. И тогда обыкновенный человек, осуществляя свое естественное право, не гений и не страстотерпец, а самый обыкновенный, грешный и смертный человек, если только он был психически нормален, то есть не лишен самого простого и самого важного человеческого умения - честно и просто смотреть на то, что делается окрест, - начинал понимать, что делается что-то непростительно неправильное, что это только из трусости и выгоды все говорят, что правильно. И тогда этот человек делает самое простое и честное человеческое дело: он берет пистолет и идет на площадь.