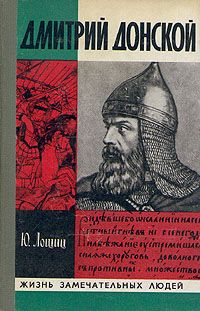Но снова и снова валом валили в Сарай душепродавцы. А кого им было стесняться и кого бояться в Улусе Джучи? Если бы здешним царям предложили на выбор ислам или торговлю, мечети или базары, то они, конечно, предпочли бы остаться с купцами и лавками, а не с муллами и минаретами. Львиной долей своего богатства, своей роскоши обязан был Сарай работорговле. Воинские походы бывают не всякий год, и «выход» от подвластных народов поступает лишь раз в году, зато пошлина с каждого мимоидущего каравана течет прямо в ханскую казну. Иную купеческую армаду и за день не обскачешь от головы до хвоста. В одну только Индию снаряжались караваны, насчитывавшие до четырех, до шести тысяч породистых скакунов, отобранных на продажу. Так пусть больше ходит караванов, и пусть никто на долгих путях не посмеет даже взглянуть косо на купца и его людей! Можно без угрызений совести казнить какого-нибудь очередного князя из русских, можно при крайней нужде даже прирезать дюжину принцев крови, своих же, чингисхановичей, но нельзя и пальцем тронуть проезжего заимодавца или менялу: пусть шествует от города к городу и всюду вещает, что империя монголов — рай для людей торговли.
Впрочем, чистопородных монголов, потомков завоевателей, в Сарае, да и во всем Улусе Джучи ко второй половине XIV века осталось совсем немного. Те, что осели здесь при Батые и его преемниках, с годами все более обособлялись от своей бывшей родины, а свежих сил оттуда не притекало. Вчерашним покорителям приходилось входить в более или менее тесное бытовое общение с зависимыми от них народами и племенами: с булгарами и половцами-кипчаками, с русскими и мордвой, с хорезмийцами и кавказцами. Неумолимо должно было произойти то, о чем умозаключает Энгельс в «Анти-Дюринге»: «…в огромном большинстве случаев при прочных завоеваниях дикий победитель принужден приноравливаться к тому высшему экономическому положению, какое он находит в завоеванной стране; покоренный им народ ассимилирует его себе и часто заставляет даже принять свой язык»1.
Как же приноравливались победители в нашем случае? От законоучителей Хорезма и Ургенча они переняли веру, от тамошних мастеров — ремесла, от кипчаков — язык, от булгар и русских — отчасти, правда, — культуру земледелия.
Когда-то европейский путешественник Плано Карпини свидетельствовал, что монголы едят мясо волков и лисиц и всяких других диких зверей, а иногда не брезгуют и человечьим мясом. К последнему утверждению историки, правда, относятся с недоверием. Но известно, что во времена Чингисхана рядовой монгольский воин действительно кормился всяческой дичиной, потому что в походах содержался на полуголодном пайке по пословице «от сытой собаки плохая охота». Хищный, отдающий некоторой жутью образ воина той поры воссоздан в монгольском «Сокровенном сказании», где соперник Чингисхана так отзывается о его вождях: «Это четыре пса моего Темучжина, вскормленные человечьим мясом; он привязал их на железную цепь; у этих псов медные лбы, высеченные зубы, шилообразные языки, железные сердца. Вместо конской плетки у них кривые сабли. Они пьют росу, ездят по ветру; в боях пожирают человечье мясо. Теперь они спущены с цепи; у них текут слюни, они радуются».
В пору пребывания Дмитрия и его спутников в Улусе Джучи здесь уже никто не пробавлялся волчатиной. Самым распространенным блюдом — и при ханском дворце, и в уличных харчевнях — была вареная баранина, хотя по-прежнему особо ценилась конина. Во время ханских обедов гостей уже не заставляли насильно пить кумыс. Он стал теперь напитком простонародья, придворная же знать предпочитала вина, изготовленные из медов или из винограда.
Восточный автор тех времен с поэтическим упоением расцвечивает пышными метафорами «одну из ночей веселия, когда звезды чаш кружились в сферах удовольствия и султан вина уже распоряжался пленником ума». В этой картине, кажется, и сами небеса несколько одурманены винными ароматами.
Потомки степных воинов, диких и свободных, эти люди уже не в одном поколении сами были пленниками — роскоши и утонченных удовольствий, которыми соблазнились в городах дряблого, пресыщенного Востока. Не странно ли, Чингис ненавидел города, все городское, а они построили самую великую столицу во всей Евразии, столицу, в которой уже при Узбеке числилось сто тысяч народу.
И все-таки какое-то недоверие, какое-то презрение к этому собственному детищу у них отчасти сохранялось. Сохранялся и обычай — жить в Сарае только в студеные месяцы. Как лишь наступали теплые дни и степь, просохнув под ветрами, покрывалась коврами цветущих растений, ханы покидали саранский дворец, украшенный золотым полумесяцем, и отправлялись гулять по кипчакским раздольям. Иногда ханские ставки откочевывали от верховья Ахтубы на сотни верст. Возвращаться не спешили, дожидаясь, когда замерзнут реки.
Но и степные ветра не сдували с их лиц липкий отпечаток изнеженности. Ханскую ставку, кишащую челядью, в этих походах обычно сопровождали не менее многолюдные ставки ханских жен — хатуней. Каждая из них ехала на громадной арбе, укрытой от солнца легкими тканями. Внутри арбы, окружая свою властелиншу, сидели или возлежали на шелковых и атласных подушках до полусотни юных красавиц, наряженных в живописные одежды и драгоценные уборы. При каждой из ханш состояло еще по двадцать пожилых женщин, ехавших отдельно, около ста верховых юношей невольников, большое число старых слуг. Должно быть, великий Темучжин немало бы подивился, а то и разгневался, попадись ему на глаза в степи это необычное воинство благоухающих мастиками красоток и избалованных рабов. Должно быть, ему не понравилось бы и поведение его кровных потомков, которые каждый день проводят с новой женой (причем она должна не только кормить, поить и потешать своего господина, но и обрядить его после свидания в новые одежды).
Во время летних кочевок излюбленным местом для большой остановки было Пятигорье — граница между степью и снежными хребтами Кавказа. Тут на лужайках, вблизи ключей горячей воды, разбивали шатры и походные мечети, а вездесущие купцы мгновенно устраивали малое подобие сарайского базара. Хан плескался в ключевой воде, пахнущей серой. Считалось, что такое купание способно предохранить от болезней на всю зиму.
Русских в Улусе Джучи, впрочем, как и арабов и персов, удивляла картинная церемонность ордынцев в их обращении с женщинами, но еще более — то особое место, которое женщина занимала не только в быту, но и в государственной жизни. Хан, бывало, не сядет на трон во дворце, пока не встретит у входа и не проведет на сиденья всех своих хатуней; не пригубит чаши с вином, пока им собственноручно не нальет. Вручение привезенных с собою подарков иноземцы начинали с хатуней, лишь напоследок одаривали главную жену и хана. От воли жен, а особенно старшей, часто зависело расположение хана к приезжему князю-даннику. После смерти властелина его первая жена становилась регентшей, иногда и при взрослых уже сыновьях. На каждом почти шагу прислушиваясь к мнениям женщин, ханы заражались от них капризностью, непостоянством мнений, доверчивостью к сплетне, а не удовлетворяемую сполна жажду единоличной власти сплошь да рядом утоляли вспышками кровожадной жестокости.
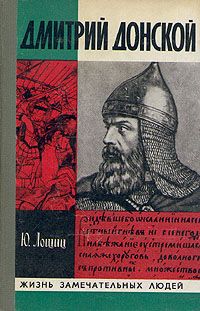

![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](https://cdn.my-library.info/books/37088/37088.jpg)