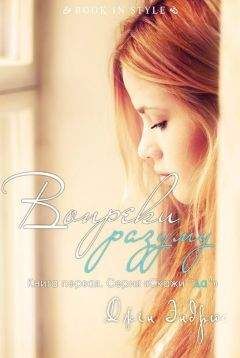Поскольку мы коснулись этой темы и поскольку Дали посвятил массу времени опытам в области оптики и, в частности, в области стереоскопии, которая ближе всего могла подвести его к той цели, к которой он стремился — покорить третье измерение, — то необходимо рассказать и о его голограммах, вернее даже о «хроноголограммах».
Когда американский физик Деннис Габор[526] получил в 1971 году Нобелевскую премию за открытие голографии, Дали решил, что благодаря этому изобретению сможет реализовать свою давнюю мечту — создавать объемно-пространственные изображения. В начале 1972 года, следуя советам самого Денниса Габора, он изготовит три композиции, которые будут выставлены в галерее «Кнодлер и Ko» в Нью-Йорке с 7 апреля по 13 мая. В предисловии к каталогу выставки Дали уточняет, что значит для него голография: «Трехмерная реальность занимала умы всех художников, начиная с Веласкеса, и современный аналитический кубизм Пикассо тоже пытался приручить эти три измерения Веласкеса. Ныне благодаря гению Габора стало возможным возрождение живописи на основе голографии, открылись новые творческие перспективы».
23 мая 1973 года в гостинице «Мёрис» Дали выставил свою первую «хроноголограмму». Стало ли это событие началом нового «периода» в творчестве художника, совпавшим по времени с тем, что рука его начала утрачивать былую уверенность и он стал прибегать к услугам как минимум одного ассистента, который рисовал для него уже гораздо больше, чем просто «фон»? Или он потерял вдохновение? А может быть, этот интерес к голографии просто вписывался в его общее увлечение наукой, характерное для того периода его жизни? Или же это был самый обычный «gimmick»[527], который он придумал, чтобы остаться под ярким светом рампы?
Видимо, там всего было понемножку.
С конца шестидесятых годов творческая деятельность Дали в основном — если не сказать исключительно — была посвящена созданию Театра-Музея, ставшего его единственным реальным делом тех лет. Он не расписался в бессилии, просто живопись (и с этим нужно смириться) вновь отступила на задний план. Да, этот Театр-Музей, к которому мы еще вернемся в следующей главе, нужно рассматривать как самостоятельное произведение искусства, а не просто как собранную под одной крышей коллекцию шедевров. С тем, что там задумывалось и создавалось, все прочее не шло ни в какое — или почти ни в какое — сравнение.
Но конечно же это не касается той картины, которая произвела тогда фурор. Она называлась «Ловля тунца» и была куплена Полем Рикаром.
Этот миллионер прибыл в Порт-Льигат на своей яхте, чтобы приобрести у Дали пару акварелей, а уехал с огромным, ярким и красочным полотном, выполненным в прежней манере художника; досталось оно ему за двести восемьдесят тысяч долларов. С точки зрения Дали — «квинтэссенция помпезности». Ну, насчет «квинтэссенции», Дали тут явно погорячился. Это было время, когда Дали на все лады твердил о своем восхищении Месонье[528]. Что понятно: в своей живописи он практически скатился до уровня последнего.
Но когда его упрекали в китче или помпезности, а также говорили о том, что некоторые его произведения явно грешат дурновкусием, он восклицал в ответ: «Бесплоден именно хороший вкус, это он является первейшей помехой для любого творчества!»
Вполне справедливо. А теперь давайте поговорим о «творческом воображении». Чувствуется ли оно в «Ловле тунца»?
Разбрызганная кровь и нож в центре картины, на котором, по замыслу Дали, должно было сконцентрироваться все внимание зрителя...
О своем полотне Дали сказал, что оно являет собой «взрыв чистой энергии», в другой раз он пояснил, что это «галлюциногенная» картина, изобилующая эффектами, построенными на оптическом обмане. Words, words, words...[529]
Может быть, за Тейяром де Шарденом он прячет слабость своей концепции и отсутствие вдохновения? По его словам, эта картина является иллюстрацией теории Тейяра де Шардена о конечности Вселенной и космоса: «Я вдруг понял, что именно конечность, сжатость и ограниченность космоса и Вселенной и порождают эту энергию» и что «частота и сила душевных порывов задают ритм», который, согласно Делакруа, способен проявляться только «через призму руководящего им разума». Неплохо сказано; но взял ли Дали ту высоту, на которую поднял планку? Стоит ли что-нибудь за красивыми словами? И наконец: соотносится ли прецизионизм Дали с таким большим форматом?
В этот период Дали пишет примерно по одной картине большого формата в год. Это нечто новое для него. Что движет Дали? Во-первых, картины большого формата дороже стоят, а во-вторых, соответствуют новой экономической ситуации. С одной стороны, появилось новое поколение миллиардеров, нефтяных королей, директоров банков, главным образом американцев, которые приобретали, как правило для огромных холлов своих предприятий, живописные полотна больших размеров, по виду напоминающие фрески. С другой — сами американские художники стали все чаще спускаться в нижнюю часть Манхэттена — Сохо, чтобы писать там в огромных lofts[530] свои огромные картины.
Дали, всегда державший нос по ветру, тут же понял, что это не просто очередная мода, а глубинные изменения, связанные с новым modus vivendi[531].
В истории есть пример изменения формата работ целого поколения художников. «При соблюдении всех пропорций» (по выражению Дали) художники стали писать картины гораздо меньших размеров за несколько лет до кончины Людовика XIV, когда аристократы, уставшие от своего монарха и его любви к размаху, начали покидать Версаль с его высоченными потолками и селиться в пригороде Сен-Жермен.
На смену Вуэ[532] придут Ватто, Ле Сюер[533] или Лебрен[534]. Эволюция в живописи зависит и от такого рода условий. И Дали подчинился им так же, как и другие современные ему художники. Во всяком случае, те, кто был как-то связан с Америкой.
Своими наблюдениями за тем, как Дали пишет картины и работает с натурщиками, поделился со мной директор одного из домов художественного творчества на юго-западе Франции, который, будучи совсем молодым человеком и случайно оказавшись у Дали, позировал ему для его «Ловли тунца», зарабатывая таким образом на карманные расходы. «Дали, — поведал мне этот человек, — делал невероятное количество черновых набросков и эскизов. Рисуя, он постоянно насвистывал. А порой даже что-то напевал. Он ставил нас на доски из прозрачного стекла или плексигласа, под которыми мог свободно ходить и разглядывать самые интимные места своих моделей как мужского, так и женского пола. Но он никогда до них не дотрагивался. Просто смотрел и все».