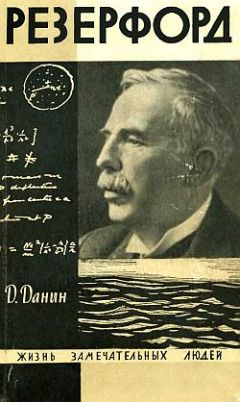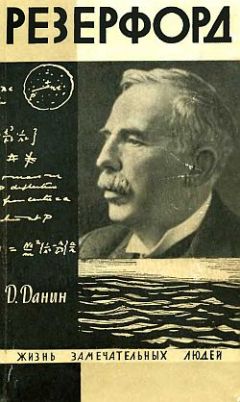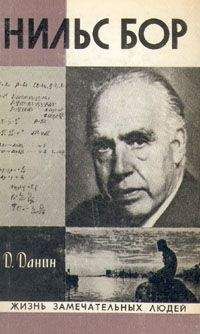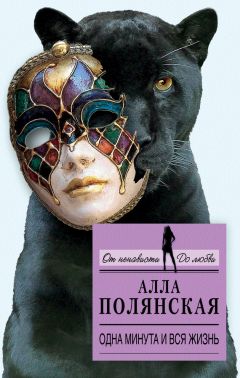Он шел, прощаясь с продымленными манчестерскими небесами. И ему вспомнилось, как однажды сказал да Коста Андраде, слывший среди физиков поэтом: «Город угрюмых улиц и теплых сердец». Пожалуй, верно.
Он шел, а в кармане у него лежало только что написанное им дома благодарственное послание к университетскому Сенату. Оно начиналось словами:
Я провел среди вас двенадцать очень счастливых и плодотворных лет.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Мозаика жизни
1919–1937
Это великая штука — жизнь. Я не хотел бы променять ее ни на что…
Резерфорд
1
На сей раз он не нанимал извозчика. И ни у кого не спрашивал дороги к Кавендишу. И никому не представлялся на Фри Скул лэйн.
Он знал здесь всё.
И его здесь знали все.
Мир заметно изменился за четверть века. Еще решительней изменилась физика. Но Кембридж изменился меньше, чем физика, и меньше, чем мир. Он почувствовал это тем острее, что сам уже ни в чем не походил на того заморского стипендиата, который впервые явился сюда осенью 95-го года и показался здешним старожилам диким кроликом из Антиподов, правда — роющим глубоко.
Кембридж пребывал неизменным, точно был островком английского пейзажа, а не английской культуры. Он менялся, но от заката к рассвету, а не год от году; от осени к весне, а не от десятилетья к десятилетью. И остроумцы готовы были держать беспроигрышные пари, что понадобятся геологические эпохи, дабы в облике университетской сердцевины города проступили какие-нибудь иные сильные черты, кроме извечной монастырско-музейной старинности.
Но была в этом своя прелесть. И тихая неодолимая мощь. И эта кембриджская неподверженность бурям времени, как ни странно, пришлась теперь по душе Резерфорду. Пятидесятилетний, он уже не иронизировал в письмах по адресу неких здешних окаменелостей. Уж не готовился ли он с годами пополнить их коллекцию? Или повежливел?
Во всяком случае, он чувствовал, что обосновывается в Кембридже навсегда.
А для коллекций он заведомо не годился. Нельзя коллекционировать вулканы. Стать окаменелостью ему не грозило. Даже в Кембридже. Хотя порою мысли о старости удручали его всерьез, он отнюдь не собирался уходить в затишье.
Все минувшие двадцать пять лет физика переживала шторм за штормом. И буря все крепчала. Только что люди узнали с его собственных слов, что, по-видимому, уже удалось осуществить в лаборатории искусственное расщепление атома. И тем же летом 19-го услышали они, что наблюдения астрономов во время солнечного затмения на острове Принчипе и в заливе Собраль подтвердили истинность теоретических построений Эйнштейна. Словом, буря шла широчайшим фронтом — от микромира до макрокосма. И он, Резерфорд, был в глазах современников одним из тех, кто всего усердней качал мехи, сеявшие ветер. Это не расходилось с его мнением о самом себе. (Нет, не расходилось!)
И в мирный Кавендиш он принес с собою не мир, но меч.
Есть знаменательное совпадение.
Счастливые дни Манчестера начались в свое время с удара кулаком по столу и оглушительного: «Ву thunder!» Так вот, словно доброе предзнаменование, в начале его кавендишевской профессуры тоже прозвучало слово «гром». И тоже запомнилось окружающим. До нас оно докатилось шуточным эхом в стихах кембриджца А. Робба — физико-математика, чье имя Дж. Дж. указал в гордом перечне своих 27 учеников, ставших членами Королевского общества.
Впрочем, у этой истории далекое начало.
Когда перед рождественскими каникулами 1897 года кавендишевцы тех лет впервые собрались на торжественный и дружеский обед в честь открытия электрона, их пиршество завершилось непредвиденно: встал молодой и красивый, изрядно подвыпивший рисёрч-стьюдент из Парижа и в полный голос запел «Марсельезу»:
Allons enfantes de la patrie…
(Вперед, дети отчизны…)
Поль Ланжевен пел с таким воодушевлением, что случилась еще одна неожиданность: старый официант-француз припал к его плечу с поцелуем.
Молоды были все, включая Дж. Дж. Происшедшее всех взволновало. И вместе с самой традицией ежегодных кавендишевских обедов возникла традиция сопровождать шумную трапезу песнями. Вероятно, Ланжевен тогда не просто встал, а вскочил на стул, ибо потом повелось: после кофе и после портвейна, после тостов, серьезных и шутовских, все вставали на стулья и пели, взявшись крест-накрест за руки. И, как некогда Ланжевен, пели «в полный голос», — засвидетельствовал Андраде. «Во всю глотку», — энергичней выразился Капица.
Время, конечно, сделало с этой традицией то, что оно делает со всеми традициями: патетическая нота постепенно сменилась иронической, возвышенность вытеснялась пародийностью. Не великие песни стали петь, а шутливые песенки. Но когда бывали они своего домашнего изготовления, их пели с удвоенным удовольствием. Они насмешливо отражали лабораторную злобу дня и понятны были только посвященным. Они составили целый сборник с юмористическим названием — «Послеобеденные труды Кавендишевского общества».
Перед рождественскими каникулами 19-го года не было в Кавендише более злободневной темы для острословия, чем недавнее воцарение Резерфорда. Об этом и возвещала песенка А. Робба «Индуцированная активность». Пели ее на популярный тогдашний мотив — «Люблю я шотландочку…». И были там слова:
У нас профессор —
Веселый силач профессор,
Директор лаборатории на Фри Скул лэйн…
Едва сюда он приехал.
Как все ожило здесь,
— Ибо, — сказал он, — на этом месте дело вообще не пойдет,
Пока я не наведу гут чистоту и порядок.
Найму-ка я кембриджскую «lidy»,
Чтоб смести паутину со стен.
……………………………
Сказал он: — Разрази меня гром!
Я удивляюсь, откуда только взялся здесь весь этот хлам.
Впрочем, дело ясное и очевидное —
Со времен Максвелла и со времен Рэлея
Накапливался он тут изо дня в день…
Конечно, Робб не сам придумал эти «разрази меня гром» и «я наведу тут порядок». И даже паутину на стенах он наверняка придумал не сам. Это было бы слишком рискованно. Резерфорд мог устроить чудовищный разнос: уж не собираются ли старые кавендишевцы поссорить его с Дж. Дж.?! Слишком хорошо было известно, что с годами сэр Эрнст все меньше стеснялся в выражениях и пресловутая его прямота все меньше доставляла удовольствия подчиненным. Весь его монреальско-манчестерский фольклор переселился вместе с ним в Кембридж. И кавендишевцам не нужно было обретать собственный опыт для того, чтобы начать относиться к нему правильно, то есть со смесью восхищенного обожания и предусмотрительного трепета. Нет, конечно, Робб просто цитировал Резерфорда. Даже не подражал его языку и стилю, а просто цитировал то, что слышали и знали все. В том числе и Дж. Дж.