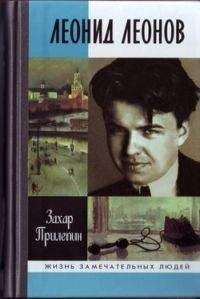А чаще всего судьба женщин и несчастна, и порочна одновременно: от разрывающейся меж двумя «барсуками» главной героини первого леоновского романа, к еще одной, гнилью подернутой реинкарнации Настасьи Филипповны – Маньке-Вьюге в «Воре», вплоть до Лизы из «Дороги на Океан», сделавшей в припадке истерики аборт от обожающего ее мужа. Череду подобных характеров продолжает жена Вихрова, сбежавшая от него вместе с ребенком. Женщина она, может, и честная, но сердечно какая-то холодная. Завершает этот скорбный ряд циничная и фригидная Юлия Бамбаласки из «Пирамиды».
Во взгляде на женщин, повторимся, Леонова и Распутина ничего не роднит; да и, кажется, Валентин Григорьевич даже не мог заподозрить учителя в таком сумеречном воззрении на слабый пол. Но мы-то уже знаем, что Леонид Максимович и на мужчину смотрел не более радужно. И тут-то они с Распутиным сошлись.
Главная метафора книги «Живи и помни», конечно, леоновская: мужчина, в сути своей превратившийся в волка – предавший и Отечество, и любовь к женщине и в волчьем обличии вернувшийся к своей любимой.
Книга «Живи и помни» могла бы называться «Волк», когда бы уже не было такой пьесы у Леонова, с той же метаморфозой, когда сильный, смелый русский мужик становится зверем.
У Распутина, дезертировавший с фронта солдат напрямую волком не называется нигде. Но книга начинается с того, как он, живущий в заброшенной зимовейке, отпугивая волков, научился страшно выть. Кульминация «Живи и помни» – тот момент, когда дезертир гонит по лесу корову с телком и, уведя их подальше от людей, телка забивает. Так он превращается в волка, ворующего беззащитную скотину у людей. И кровь его, ставшая волчьей, легко уносит его из зимовейки, когда за ним начинается охота. Ничего в нем человеческого уже не остается, и он ни единой жилкой не чувствует, что беременная его ребенком женщина, Настена, топится в реке, не вынеся своей судьбы, своего невольного предательства и обрушившегося на нее презрения мира.
Лишь здесь сходятся Леонов и Распутин в своем, как нам кажется, нечеловечески жестком взгляде на женщину, пошедшую за мужчиной и невольно предавшую Родину.
У Распутина в «Живи и помни» героиня гибнет – но за десять лет до публикации распутинской повести у Леонова в повести “Evgenia Ivanovna ” происходит, по сути, та же трагедия: женщина, повинная только в том, что пошла за своим мужчиною, умирает в финале, во время родов. И даже наличие плода не спасает ни распутинскую Настену, ни леоновскую Женю.
Так и хочется воскликнуть, вскинув руки: разве это справедливо?
…Даже если виноваты в их погибели дурные мужчины, обретшие бесстыдный волчий облик…
На исходе 1960-х – в начале 1970-х годов Леонов узнает о двух писателях, которые впоследствии станут в известном смысле антиподами. Мы говорим о Юрии Бондареве и Александре Солженицыне.
В сегодняшнем нашем восприятии два этих имени сложносочетаемы, но в течение, как минимум, трех десятилетий оба вышеназванных человека вполне могли соперничать за звание первого русского писателя.
Бондарев был не просто известен – а именно что популярен; и не только у нас, но и за рубежом, где с 1958 по 1980 годы опубликовано 130 наименований его книг.
На наш весьма субъективный взгляд, общий уровень прозы (и тем более публицистики) Солженицына выше, чем общий уровень сочинений Бондарева. Но в лучших своих вещах Бондарев берет высоты, недоступные Солженицыну – писателю очень сильному, но лишенному той непостижимой музыкальности, которая является основой всякой великой прозы.
При чтении Солженицына все время остается ощущение огромного мастерства – и при этом сделанности, рукотворности текста, отсутствия в нем тайны.
Когда, напротив, читаешь военные вещи Бондарева, ощущаешь в невозможной какой-то полноте огромную и страшную музыку мира. Бондарев – один из лучших известных в литературе баталистов; сражение, скажем, в романе «Горячий снег» сделано, безусловно, великим художником.
Сказав выше «военные вещи Бондарева», мы не оговорились. Чтение позднего, «мирного» Бондарева оставляет неистребимое ощущение, что книги его написаны не одним, а двумя людьми. Возьмем, к примеру, «Берег», где первую и третью «мирные» части читать, признаться, трудно: по причине чрезмерной литературности самого вещества прозы, удивительного какого-то обилия неточных эпитетов и описания непродуманных эмоций. Но вторая, «военная», часть «Берега» опять удивительно хороша – прозы такого уровня в России очень мало.
Впрочем, некоторые поздние вещи Бондарева, скажем, «Бермудский треугольник», не распадаются и выглядят вполне крепко, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что и этот роман, по сути, связан с войной и являет собой описание не очень далеких от передовой тылов уже идущей новой Гражданской.
Бондарев, повторимся, писатель военный – что его вовсе не умаляет, как не может умалить такое определение, скажем, Василя Быкова.
Как военного писателя Леонов и узнал Бондарева.
Их познакомил Александр Овчаренко в 1971 году, кстати, 23 февраля.
В первом же разговоре Бондарева и Леонова, как нам кажется, заложена суть их последующих литературных взаимоотношений.
Последний сразу спросил Бондарева о Достоевском: это была первая и привычная леоновская проверка.
– Мне ближе Толстой с его плотскостью, мясистостью, жизненностью, – честно ответил Бондарев. – Достоевского тоже люблю, но он меня часто смущает алогичностью.
Леонов, вспоминает Овчаренко, долго молчал, потом сказал:
– У него не алогичность. Сила искусства достигается другим – наибольший эффект дают ходы шахматного коня. Я пишу три главы, всё развивается последовательно, читатель ждет дальше того-то. И вдруг я делаю резкий, непредвиденный им поворот, все летит черепками… А между тем внутренне это обусловлено, а не то, чего ждал читатель. Это – ход конем.
Умение «ходить конем», к слову, одно из главных отличий Леонова от всех иных его современников.
Большинство русских писателей прошлого века выстраивало сюжет почти прямолинейно. Например, его можно нарисовать так: – ^ —. Леонов в лучших своих вещах строит сюжет как кардиограмму, на которую наложена еще одна кардиограмма. Совпадение одного сердечного удара с другим – это и есть леоновский сюжет.
Упомянутому Овчаренко Леонов рисовал и построение своей фразы примерно следующим образом. У одних фраза, скажем, такая —. У Леонова всё строится куда сложнее, например, так: //—\.
Леонов еще не раз будет обсуждать строение сюжета и фразы с Бондаревым, и это, наверное, еще один, после Проскурина, случай, когда леоновская наука по большей части пойдет писателю во вред.
Огромная сила Бондарева была совсем в другом, он «добывал» неслыханную и ошарашивающую музыку ясностью своей, мужеством, меткостью, жизненностью. То есть наследованием толстовскому, но ни в коем случае не достоевскому пути.