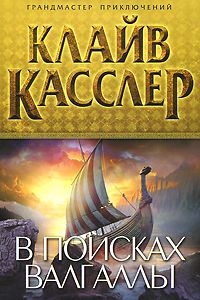Мари записывала, всем видом являя полное несогласие с тем, что она пишет.
– У нас с ним счеты, – сказал не столько для Мари, сколько самому себе Виссарион Григорьевич. – Большие счеты! Сохрани бог, если обманет надежды Достоевский! И какие надежды!
После ухода Мари он проглядывал ее записи. Долго, тревожно думал о Достоевском… Решительно ничего не понимает Мари!.. А что бы он делал без нее сейчас? Добрая, усердная Мари! Мужественно скрывает она свои страхи… А если и в самом деле уходит жизнь?
В кабинете стояла давящая тишина. Хоть бы кто-нибудь приехал да рассказал, о чем говорят в Петербурге? Что происходит во Франции?
Только 20 февраля (по русскому календарю, отстававшему от европейского на двенадцать дней) в Петербурге впервые распространились уверенные слухи о низвержении во Франции королевской династии.
К Белинскому заехал Михаил Александрович Языков и стал рассказывать сбивчиво, торопливо.
– Черт его знает, что будет теперь во Франции, – говорил он. – Ты понимаешь, Виссарион Григорьевич, баррикады и пушки! Все смело́, всю власть… Ну, а коли снова повернет дело к Робеспьеру? Когда-то ты его славил. Помнишь?
Белинский привстал с кушетки.
– Да как же… как же так? – говорил он, потрясенный. – Давно ли я сам был в Париже и воочию видел всю мерзость тамошнего правительства! Но хоть бы кто-нибудь обмолвился о возможности, о близости революции!.. Как же это так?.. – Он снова сел, совершенно обессиленный. Дыхание рвалось из груди с резким свистом.
Михаил Александрович Языков, разумеется, ничего не мог объяснить. Был он встревожен и заметно торопился. Словно в грозный день, когда всполошился весь Петербург, опасался Михаил Александрович задержаться у давнего приятеля, еще в прежние годы призывавшего революцию в Россию.
Марья Васильевна застала Белинского расхаживающим по кабинету. Правда, его заметно пошатывало от слабости.
– Ляг, немедленно ляг! – сказала Мари и, взяв мужа под руку, бережно повела к кушетке.
– Ты можешь понять, Мари? Клянусь, я сам не понимаю… нет, понимаю, да боюсь поверить. Может быть, в Париже совершаются заветные чаяния человечества. А мы?..
Марья Васильевна усадила его на кушетку.
– Успокойся, – повторяла она. – Ты погубишь себя, если будешь волноваться!
А он все говорил и говорил, только припадки надрывного кашля могли прервать его речь.
Виссарион Григорьевич очень томился от мысли, что никто не едет к нему с подтверждением известий, принесенных Языковым. Едва ушла Мари, он подошел к окну и стал прислушиваться, словно ждал, что на петербургской улице соберутся толпы людей, чтобы приветствовать революционную Францию.
Резкий звонок, раздавшийся в передней, заставил его вздрогнуть. Хотел пойти навстречу долгожданному посетителю, но закружилась голова. Кое-как добрался до ближайшего кресла и сел, устремив нетерпеливый взгляд на дверь.
В кабинет вошла смущенная Мари с пакетом в руках. На пакете была отчетливо видна казенная печать.
– Принес какой-то солдат, – сказала Мари. – Он ждет ответа.
Белинский поспешно вскрыл пакет. Вот оно, первое российское известие, адресованное ему по случаю французской революции! В бумаге из Третьего отделения значилось, что генерал-лейтенант Дубельт желает лично познакомиться с господином Белинским, а потому и надлежит ему, Белинскому, пожаловать в Третье отделение в свой свободный день, между двенадцатью и двумя часами дня.
Виссарион Григорьевич отбросил бумагу.
– Может быть, они уже и пушки Петропавловской крепости направили на меня, многогрешного. – Хотел смеяться, а из груди вырвался только глухой хрип.
– Солдат ждет ответа, – напомнила Мари.
– Не солдат, а жандарм, Мари! Слава богу, хоть солдат-то еще не привлекают у нас к политическому сыску!
– Говори тише!
Марья Васильевна с отчаянием смотрела на бумагу, только что прочитанную Белинским. Со дня замужества постоянно слышала она разговоры об этом таинственном Третьем отделении. Сколько раз думала об опасности, которой подвергается ее муж, готовый лезть на рожон. Теперь опасность зримо вошла в дом.
– Продиктуй мне ответ, – сказала Марья Васильевна.
– Э нет, Мари! Будем соблюдать порядок делопроизводства. Нужен собственноручный ответ.
Виссарион Григорьевич еще раз взглянул на зловещую бумагу. Она была подписана старшим чиновником Третьего отделения для особых поручений, Поповым. По иронии судьбы, это был прежний учитель Белинского по пензенской гимназии, который благосклонно отличал его среди других учеников. Вот какую карьеру сделал провинциальный педагог!
Однако надо было ответить на приглашение Третьего отделения. Белинский сослался на болезнь, которую может засвидетельствовать главный врач Петропавловской больницы Тильман. Он обещал явиться в Третье отделение, как только позволит здоровье.
– Мне нет нужды спешить свести личное знакомство с его превосходительством генералом Дубельтом, – сказал Виссарион Григорьевич, закончив краткое письмо. – Отдай жандарму, Мари!
Вызов в Третье отделение сильно озабочивал Белинского. Если зовут в первый же день, когда стало известно в Петербурге о французской революции, что же будет дальше?
А случилось вот что: еще в начале февраля в Третье отделение поступил анонимный донос. Если сам Белинский, сообщал аноним, даже и не имеет в виду ни политики, ни коммунизма, то в молодом поколении он легко может посеять мысли о политических вопросах Запада.
По этому доносу и сработала государственно-сыскная машина, только с непривычной, пожалуй, быстротой.
Но сигнал был настолько серьезен, что Белинскому нужно было принять меры.
На следующий день он вел долгий разговор с Некрасовым. Никаких новых известий о Франции Николай Алексеевич не имел. Он рассказывал, что по Петербургу носятся слухи о чрезвычайных мерах, которые намеревается осуществить русское правительство. Потом они разбирали накопившиеся у Виссариона Григорьевича бумаги и письма. Некрасов бросал отобранное в затопленную печь. Виссарион Григорьевич задумчиво смотрел на разгорающееся пламя. Достал из-под спуда свою переписку с Гоголем. Как с ней быть?
– Отдайте мне, – предложил Некрасов, – я сумею сберечь.
– Нет, – твердо отвечал Белинский, – если пойдут по моему следу, то непременно и к вам пожалуют. А сжечь – руки не поднимаются. Давайте запрячем понадежнее. Авось еще прочитают когда-нибудь люди.
Некрасов унес с собой окончание обзора Белинского и поехал прямо в типографию.
Петербург будто замер в тревожном ожидании.
Через несколько дней в «Северной пчеле» появилась первая информация о парижских «происшествиях». Император Николай I объявил на придворном балу о провозглашении во Франции республики. Со дня на день должен был появиться высочайший манифест: Россия готова выступить на борьбу с мятежом и безначалием.