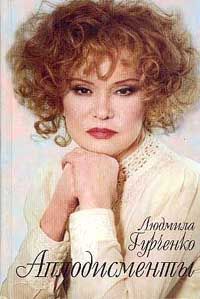У каждого свое время. У каждого своя семья. А время и семью не выбираешь. Одного человека при рождении встречает икона. Другого портрет вождя. Иконы висели в темном уголке комнаты моей бабушки. Портретами вождя были завешаны все улицы, площади и учреждения. В детском саду висел портрет — вождь держал девочку на руках. И под портретом было написано: «Вин узяв на рукы Гэлю и згадав про всих дитэй». Мне лично тоже очень хотелось посидеть у вождя на руках. Очень, очень хотелось быть Гэлей. Выросла среди пустых стен и случайной мебели. И, как теперь понимаю, у нас не было ничего. Абсолютно ничего такого, что называется благосостоянием… Недавно добрались до высоких антресолей. Туда, после смерти папы, мы боялись заглядывать. Там лежал папин баян в клеенчатом чехле, пионерский бубен, с которым работала мама и который недавно снимался в фильме «Моя морячка». Я там играю мамину профессию — массовика. И еще там лежала… кислородная подушка. Вот и весь капитал, нажитый моими родителями за всю жизнь. Но парадокс, загадка времени — жили весело, дружно и счастливо! Я пробежала детскую и юношескую дистанции бедная, гордая и счастливая.
«До скорой встречи. До скорой встречи. Только желательно, чтобы о наших встречах никто не знал». Так было сказано, мягко говоря, велено.
«Ну что, кылхозник, будете опять возделывать свои кылхозы? Что там говорят ваши лапытники?»
«Борис, ну што ты, на самом дели, я ж у диревни давно не бував, я ж у городи щитай аж з тридцать третьяга года, здесь, у Харькови, з Лелюю, да ты ж сам усе знаешь».
«Знаю, кылхозник, „усе“ знаю, голубчик».
Мой дядя Боря. Один из шести маминых братьев. Это он возглавил борьбу за ее освобождение от мужечонки-лапытника. Но то были рассказы папы. А сейчас, после войны, я его увидела первый раз. Папа прав: «Росточка небольшога, як и уся симановщина». Наполеоновский комплекс подкреплял барскими манерами и приказами.
«Так-с, так-с… Так-с, так-с… Лола! У матери давно была? Что Татьяна Ивановна? Уже полностью в ладу с режимом? Что? Ха-ха-ха! Так-с, так-с… Уборщицей на велосипедном заводе? Недурственно, забавно, очень забавно. А манеры, а воспитание куда же? А-а-а! Научили, научили вас спинки гнуть-с. А как же любимец Николашка? Не вспоминает-с?»
Тогда мне показалось, что дядя Боря выдал секрет. Значит, дедушка ушел от бабушки из-за того, что она влюбилась в какого-то Николашку.
«Луса! (Это мне). Ну-ка, принеси мне спички, в моей шинели, в правом кармане. Ну-ка, чиркани… Дымок от папиросы, дымок голубоватый…» — фальшиво запел дядя Боря. Как же я его не любила за своего папу. Мои руки тряслись. И спички, как назло, не зажигались.
— Ах, спички шведские, головушки советские, сначала вонь, потом огонь. Не слыхала такую песенку? А какие же слыхала? Ну, что ты молчишь? Ты говорить умеешь? Ну, какие песенки вы поете с папулей? «На просторах Родины чудесной…» — такую знаешь? А-а-а, знаешь. Молодцом.
Такую песню я знала. В школьном хоре ее дружно пели: «Мы сложили радостную песню, о великом друге и вожде».
— Борис, хватит! — повысила голос мама.
— Но, но, Лола. И откуда такие нервы? Да, ты слыхала, говорят, скоро будет реформа. У меня есть преинтереснейшая идейка. Одни люди есть на примете. Мозги невелики, но где их сегодня взять, эти мозги? Возвращались из Воркуты, так ты представляешь, Марк, деньги мешками везли! Дымок от папиросы… Та-а-к… палочка, нолек, нолек, нолек, палочка — дымок голубоватый, нолек, нолек, и… опять нолек — на сегодняшний день это изрядный капиталец.
— Послушай, Нолек, — и с тех пор дядю Борю в нашей семье звали только «Нольком». — Ты сперва собою займись. В тебя ж у во рту ни одного зуба нима. А тебе ще тока сорок.
— Цынга, Марк.
— Ето як, ето?
— Болезнь такая, Марк.
— И што и усе там так?
— Усе, милый кылхозник, усе.
— Борис, я сказала хватит! Хочешь неприятностей?
— Лель, ты не встревай. Не нада наседать. Человек свое отстрадал. Борис, ты ж хороший парень. Давай мы тебе зубы вставим, чтоб ты был як человек. Женим тебя. И баба у меня одна есть на примете. — И шепотом, чтоб не слышала мама: — Здоровая, чернявая, крепкая, як орех. Лель, да ты ее знаешь! — Громко на кухню, маме. — Продавщица у нашей хлебной. Она тебя, Борис, и покормит, и комната в нее есть. А пока живи в нас.
— Палочка, нолек, нолек, и опять нолек — ну, если это удастся!
— Нолек, я ж до тибя гаварю. Эх, Барис, усех денег не заработаешь. Запомни: у гробу карманов нет.
— Кылхозник! Где деньги, там и жизнь! Деньги не пахнут! А гроб… Это навевает тоску. «И монисто бренчало, и цыганка плясала, и визжала заре о любви. Я сидел у окна, в переполненном…»
— Борис, Марк! Сколько можно? Идите на базар, совсем нет картошки!
— Лель, ну на самом дели! Як же з вами можна по ласке? Во, мамыньки родные. Во, порода! Во, симановщина! До него ж по добру, по-здоровому, от чистага сердца, а он все одно — гнет свою песню: палочка — нолек, палочка — нолек, палочка — нолек…
Дядя Боря достал из зеленого вещмешка металлическую коробочку. Разложил на столе иглы, шприц, ампулы. Мы с папой с любопытством следили за его действиями.
— Видишь ли, Марк, мы теперь имеем небольшой диабет-с. Недавно у меня случился инсулиновый шок. Пренеприятнейшая, доложу я вам, штука… Дымок голубоватый… — и он легко всадил себе в руку иглу.
— Ну ты, ну ты, Барис… Як же ты здорово наловчився, сам себе такое, ето ж мамыньки родни.
— Да, Марк, войны не нюхал, не нюхал… но вдыхал другие кое-какие запахи, которые, я вам скажу…
— Борис, здесь дети!
— Лола, плесни в стакан воды своему братцу!
— Да пошел ты, — тихо сказала мама и скрылась на кухне.
— Ну и черт с вами!.. Ах, огурчики, да помидорчики, а Сталин Кирова убил да в коридорчике…
Ужас! Вот это ужас! Волосы дыбом. Такого я никогда в жизни не слышала. О дяде Боре всегда молчали. Теперь понятно, почему. Он был против самого Сталина.
«До скорой встречи. Только желательно, чтобы о встречах никто не знал».
Еще до подъема на занятия в дверь комнаты общежития осторожно постучали. Моя кровать стояла у входа. Все мне подсказывало, что стук связан со мной — после выхода картины у нашего общежития все время появлялись толпы любопытных. Я открыла дверь. Передо мной, как близнецы-братья, стояли двое молодых людей в темных костюмах, в светлых рубашках, с галстуками. С добрыми открытыми русскими лицами. Так рано в общежитие никого не пускали. Я в ситцевом халатике стояла напротив незнакомцев и ощущала нечто неведомое, но мобилизующее и заставляющее повиноваться.
— Людмила, вы можете быстро одеться? Мы вас подождем.