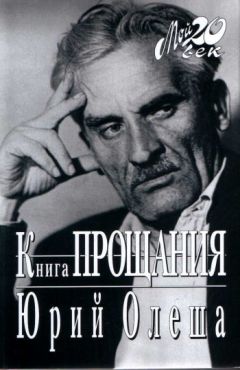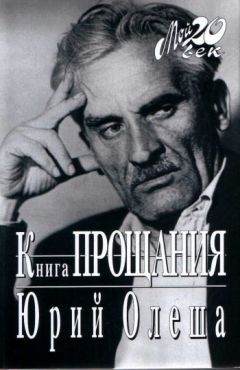Несут коричневую жижу, делят, клубится пар; вылавливают грибы в коричневых жижах. Как милы все! Как приятны! Как приятно пить, закусывать, общаться…
Я переполнен коричневыми жижами.
На рассвете я возвращаюсь домой, валюсь в одежде на кровать и засыпаю. Спящего мучат меня приступы изжоги, и во сне приступ становится группой гостей, взбегающих ко мне по лестнице, врывающихся в двери с криками и взмахами и внезапно исчезающих.
В коридоре висит телефон. Я лежу и жду. Каждое утро. Должна позвонить. И не позвонит. Я буду ждать до…
Я болен.
И часа в три дня я просыпаюсь. Я лежу одетый, укрытый пальто, в воротничке и галстуке, в ботинках, гетрах, — пиджак не расстегнут. Я чувствую нечистоту рта, дыхания, пищевода. Я чувствую печень, которая лежит во мне, как тяжелое мокрое животное, почти ворочается.
Я хочу жить с женщиной.
Пюре. Нужно питаться одним пюре. Если я скажу: я хочу есть пюре — засмеются и скажут: так и ешьте, кто же вам мешает.
И действительно, никто не мешает. Надо купить картошки и попросить соседку сварить мне пюре. Или пойти в вегетарианскую столовую. Да, наконец, и пируя, можно заказать пюре.
Эксцентрично — но это так: я мечтаю о пюре! Я не хочу коричневых жиж. Но ведь это гнусное барское рассуждение. Ведь есть же множество мечтающих о мясе… Я пресытился. У меня тугой кошелек. Я могу выбирать. Значит, нужно выбросить кошелек, перестать зарабатывать, — может быть, это путь к чистоте, которая в мыслях моих аллегорически существует в виде пюре?
Я пишу стихотворные фельетоны в большой газете[48], за каждый фельетон платят мне столько, сколько получает путевой сторож в месяц. Иногда требуется два фельетона в день. Заработок мой в газете достигает семисот рублей в месяц. Затем я работаю как писатель. Я написал роман «Зависть», роман имел успех, и мне открылись двери. Театры заказали мне пьесы, журналы ждут от меня произведений, я получаю авансы.
И вот в каком-то невидимом дневнике я делаю запись: слишком много пиров в моей жизни. Верните мне чистоту, я набряк… я найду чистоту мою, утраченную неизвестно где и когда… жизнь моя безобразна… я стану нищим… [49]Я ухвачу кончик нити и распутаю клубок….
Не звонит. В два часа дня я подхожу к телефону и вызываю ее. И происходит разговор.
К тридцати годам, в пору цветения молодости, я, как это бывает со всеми, окончательно установил для себя те взгляды на людей и жизнь, которые считал наиболее верными и естественными. Выводы, сделанные мною, могли равно принадлежать как гимназисту, так и философу. О человеческой подлости, эгоизме, мелочности, силе похоти, тщеславия и страха.
Я увидел, что революция совершенно не изменила людей…
Мир воображаемый и мир реальный. Смотря как воображать мир. Мир коммунистического воображения и человек, гибнущий за этот мир. И мир воображаемый — индивидуалистическое искусство.
Литература окончилась в 1931 году.
Я пристрастился к алкоголю.
Прихожу в Дом Герцена часа в четыре. Деньги у меня водятся. Авторские за пьесу. Подхожу к буфету. Мне нравятся стаканчики, именуемые лафитниками. Такая посудинка особенно аппетитно наполняется водкой. Два рубля стоит. На буфете закуска. Кильки, сардинки, мисочка с картофельным салатом, маринованные грибы. Выпиваю стаканчик. Крякаю, даже как-то рукой взмахиваю. Съедаю гриб величиной в избу. Волшебно зелен лук. Отхожу.
Сажусь к столу.
Заказываю эскалоп.
Собирается компания.
Мне стаканчика достаточно. Я взбодрен.
Я говорю: «Литература окончилась в 1931 году».
Смех. Мои вещания имеют успех.
Нет, товарищи, говорю я, в самом деле. Литература в том смысле, в каком понималось это в мире, где…
Ах, какое большое несчастье надвигается на меня! Вот я иду по улице, и еще моя жизнь нормальна, еще я — такой, как был вчера, и на прошлой неделе, и долгое время, такое долгое время, что я уже забыл, когда оно началось.
Я слишком привык к благополучию.
И теперь я буду наказан за то[50], что жил…
Я оказался дилетантом. О себе,
Что пережил, сумел лишь написать.
За тридцать лет как мало я успел!
А уж стареть я начал, увядать.
Еще не лыс, но волосы редеют
И как-то ослабели — ах, как жаль!
Одну лишь книгу, тощую…
Листов печатных в «Зависти» лишь пять.
А Гёте если взять? Или Толстого?
Те, правда, жили каждый по сто лет.
Так, значит, я не гений?
Надоело быть самим собой. Я хочу быть другим. Можно даже физически измениться. Я разжирел. Разве нельзя подтянуться? Следует меньше есть и ни капли не впускать алкоголя. Почему я не занимаюсь гимнастикой? Как будто нет у меня возможности предоставить себя в распоряжение врачей, массажистов.
Надоело писать о себе.
Буду писать о другом. Например, о саде, который открывается передо мною в окне. Растет дуб. Прямой дуб с тем-но-зеленой листвой.
Я не могу быть беллетристом. Не знаю, что предпринять!
Одесса, август.
Сижу в тени платанов на бульваре имени Фельдмана.
Одесса!
Воздух родины!
Здесь начиналась жизнь.
Здесь был у меня ранец. В ранце, за спиной, носил я учебники, тетради и пенал. Да, — пенал. Из далекого прошлого появляется слово: пенал. Это был продолговатый деревянный ящик, плоский — с выдвижной крышкой. Крышка пенала. Она имела углубление для нажима большим пальцем при выдвигании, и само это углубление блестело, как ноготь. Лакированную поверхность крышки украшали переводными картинками. Переводные картинки. Они были непрочны и вскоре исчезали, оставляя на деревяшке мерцающий след, похожий на крыло бабочки.
Детство было наполнено страхами.
За что его назвали золотым?
Страхи.
Внезапные ночные пробуждения. Ну да, ясно: кто-то ходит по коридору. Крадется. Вор!! Тише. Холодея, я прислушиваюсь. Тихо. Но ведь только что трещал пол. Ведь я, спящий, слышал треск. Это он, этот тихий треск, оторвал меня от подушки и посадил на постели среди тишины и темноты.
«Эй!» — кричу я во всю мочь, но безгласно, — кричу страшным немым криком головы. «Эй, кто там?! Почему ты затих?! Объявись! Входи! Вор! Вор! Входи! Убивай!»
Тишина.
Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь… Разве это не было страшно?
Сперва меня вообще не было, потом я был некоей точкой, возможно, не больше тех, которые извиваются на светящемся поле микроскопа.