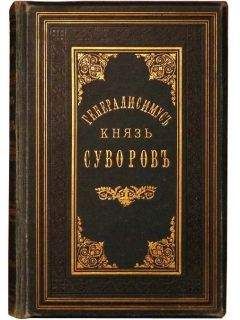Причем он воспринимал жизнь очень своеобразно. Видел мир не буквально реалистически, не скучно. Ему нравились мирискусники и примитивисты. Такая смещенная реальность его увлекала, ложилась на душу. Он и рисовал в таком духе. Райкин говорит, что его он рисовал просто уже просто «левой ногой», так изучил его лицо… И очень похоже, хотя нереалистично, шаржированно. У него осталось несколько рисунков. И теперь понимает, что никто потом так похоже его не рисовал…
* * *
Райкин считает: его друг по мощи таланта, по энергии, по голосовым и внешним данным был абсолютно театральный артист. Мог «вживую» подчинить себе большое количество людей. Без всяких технических средств, какими богато кино – технический вид искусства.
Актерское искусство в чистом виде – это театральное искусство. Театральный артист создан для того, чтобы играть на сцене, а уже потом сниматься в кино, на телевидении. Но его друг вдруг очень увлекся кино. Потому что хотел быть знаменитым. Момент тщеславия, говорит Райкин. Но это естественно для артиста – хотеть быть знаменитым. И он им стал. Радовался от того, что его узнают. Притом он снимался у замечательных режиссеров, о которых можно было только мечтать, – у Михалкова, у Авербаха…
Да, ему хотелось большей известности, чтобы его узнавали на улице. Райкин уверен, что потом он понял бы, что это не самое важное в профессии и вообще в жизни. Но тогда ему хотелось отведать этого блюда. Надо было это пройти. Но он не успел утолить этот голод…
…И предчувствовал свой ранний уход – интуиция. Не раз об этом говорил другу.
Константин тогда считал, что он таким образом как бы интересничает. А тот говорил о своих предчувствиях как-то житейски, без всякого трагизма. Мол, я знаю, что я рано умру, знаю, что проживу недолго. По касательной как-то, к слову. Серьезно к этому никто не относился, все воспринимали это как забавную Юрину странность…
Открытие передвижников ■ Калорийная булочка ■ «Сегодня я вегетарианец!» ■ «Меня не узнают!» ■ Грим не нужен ■ «Я бездарность!» ■ Читать, читать и читать! ■ Почему у Волчек всегда чистая машина ■ Раб настроения ■ «Уйду в монастырь!» ■ Чеченский киноальбом ■ Пригоршни адельфана ■ Принципиальная беспринципность ■ Несколько робинзонов ■ Как художник художнику ■ Как снять стресс ■ В шубе, с тростью, не спеша…
С Александром Адабашьяном Богатырев познакомится на съемках михалковской дипломной работы, где тот работал художником картины. Эта дружба продлится многие годы…
– Юра играл там маленькую эпизодическую роль немца, но играл очень хорошо и сразу стал заметен. И потом он работал практически в каждой нашей картине. А по-настоящему мы с ним сблизились на почве изобразительного искусства. Он же учился в художественном училище, а я уже закончил к тому времени Строгановку. Но Юра отошел от этой художественной среды довольно давно. И остался еще в том фрондерском состоянии, когда обожал исключительно русский авангард, а все остальное не считалось искусством. Третьяковская галерея для него вообще была не местом для посещений. Ну а я все-таки «поварился» в классике…
Я помню, что для Юры стали откровениями мои рассуждения по поводу мирискусников и передвижников. Когда мы начали разговаривать на эти темы, то стали вместе ходить в Третьяковку и Пушкинский музей.
* * *
Как уже было сказано, Богатырев не имел права на общежитие, потому что у него была подмосковная прописка. Дорога занимала полтора часа, а репетиции иногда заканчивались в час ночи. А на следующий день – репетиция в десять…
Конечно, все это было неправильно. Я знал, что он уже в течение полутора лет живет у Кости Райкина. И кстати, чувствовал страшное неудобство. Костя его не выгонял, нет. Но Юра был человеком чрезвычайно щепетильным, и это ощущение себя как нахлебника для него было невыносимо.
И он у нас как-то очень легко прижился. Однажды я пригласил его остаться ночевать в нашей квартире на Новом Арбате. В той комнате, где сейчас кухня, стоял диванчик. Там он у нас и ночевал. Даже какое-то время жил. Тогда еще были живы мои родители. Он с ними быстро нашел общий язык.
Я помню, что Юра никогда не приходил домой с пустыми руками, обязательно что-то принесет – хоть калорийную булочку. А потом придумал себе, что обожает мыть посуду. Поэтому, даже когда он приходил домой и, допустим, у моих родителей были гости и Юра дожидался, когда все уйдут, он врывался на кухню и кричал: «Нет, нет, я сам, я обожаю мыть посуду!»
Но это, как я понимаю, у него была такая форма компенсации, что ли, за кров и за стол… Он чувствовал себя крайне неловко – не деньги же предлагать, в конце концов! Никто их не возьмет. Продукты таскать тоже неудобно. И он придумал себе форму защиты: якобы обожает мыть посуду…
* * *
Помню, однажды он пришел домой из магазина сильно расстроенный, с глазами, полными слез. И трагически молчал на кухне, сев за стол. Было видно, что ему явно требуется участие. Я спросил, в чем дело.
– Меня не узнают на улице! – с отчаянием выговорил он.
Это его расстраивало. Юра тогда уже снялся в нескольких картинах. А на улице прохожие его действительно не узнавали.
Почему? На мой взгляд, именно этим он и был замечателен: не было в нем ни одной яркой характерной черты – весь белесый. Но, по-моему, это совершенно замечательное качество актера, когда нет ярко выраженной внешности, когда из «материала» можно лепить что угодно.
И я ему об этом говорил. До сих пор не понимаю, как он этого достигал, но Юра был совершенно не похож на своих персонажей, хотя снимался почти без всякого грима. В кадре он буквально физически менялся.
Его трансформация была поразительной. Если поставить рядом его героев и сравнить – разные люди!
Он мог одновременно играть в двух разных фильмах полные противоположности – обрюзгшего толстяка и мускулистого подтянутого супермена. Он практически нигде и никогда не был похож на себя. Это ценное актерское качество.
Я помню, когда Никита Михалков пригласил его на «Свой среди чужих…», он был такой… рыхлый бело-розовый блондин. Он плохо загорал, кожа сразу становилась розовой, белесые брови выгорали. Он не занимался никаким спортом, был весь какой-то аморфный. Но в картине получился спортивный, жилистый, замечательно держался в седле.
Потом в «Неоконченной пьесе для механического пианино» он вдруг снова предстал абсолютно бесформенным, расслабленным. Правда, небольшой животик ему там подкладывали, но все равно… физиономия абсолютно другая. А Штольц – опять строгий, сухой, подтянутый, весь спортивно-«англичанский».