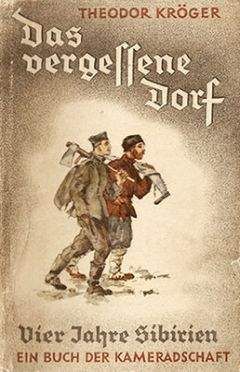Несколькими днями позже мы видим эшелон военнопленных, большинство из них, похоже, больны, так как они едва передвигаются. Выгрузят ли и этих людей тоже где-то уже как трупы и закопают?
Сибирь! Эта великолепная, далекая страна с ее сокровищами и богатствами, ее благословенным Господом Богом урожаем – здесь собираются арестанты, военнопленные, гражданские пленные с женами и детьми – все преступники!? Кто из них отправится в обратный путь и сможет увидеть эту обветренную доску, этот одинокий, тихий столбик, маркировку границы, почти стертую табличку с ужасными словами: «Европа – Азия».
Колеса тюремного вагона грохочут. День и ночь, день и ночь. Каждый поворот колес ведет нас вглубь северной Сибири.
Пустынна, дика, холодна, полна самой глубокой меланхолии – такова эта земля. Здесь редко увидишь веселых людей, потому что их дедушек и отцов отправили сюда как заключенных, преступников, каторжан и поселили тут насильно. Здесь в течение поколений живет ненависть к начальству. Все несет здесь печать навязанного молчания, унаследованных пороков, отчаянных душевных мук. Непроницаемый лес темен и молчалив, зима длительна, темна и холодна, лето коротко и знойно. Ничто здесь не знает меры, ни природа, ни люди.
Оба молчат, стали молчаливыми.
На одной станции наш тюремный вагон сцепили с пассажирским вагоном. Женщины и мужчины стояли вокруг нас и смотрели с опаской.
Внезапно идущий передо мной заключенный совершает два больших скачка, бросается на стоящую ближе всех женщину, понимает ее за волосы, разрывает одежду на груди, и уже оба повалились в снег.
Нападение оказалось таким неожиданным для всех, что женщина даже не закричала.
Первый, второй, третий удар плетью обрушивается на арестанта. Напрасно.
В руках конвоира револьвер «наган», звучит один выстрел, второй...
Тело каторжанина застывает, затем он валится на спину, руки широко разбросаны...
Но черты его лица просветлены.
Мы все стоим неподвижно...
Первая половина дня, воскресенье. Ясный, солнечный день, в воздухе чувствуется уже первое, нерешительное приближение весны.
Заключенных выводят на большой двор; им приказали выстроиться на открытом пространстве. Они садятся на тщательно подметенную от снега каменную мостовую. Цепи извиваются как толстые, заржавевшие змеи вокруг их ног и запястий, рядом с ними лежат шары. Эти шары видимый знак окончания их жизни.
Неподвижно, как застывшие, сидят они, похожие на хищников, стервятников в засаде. На их бритых черепах видны глубокие, плохо зажившие шрамы. Рядом со мной сидит неподвижно, как все другие, Степан.
Более сотни мужчин сидят на дворе, но там царит тишина как ночью на старом кладбище.
Люди похожи на восковых фигур в ужасной палате паноптикума. Только их глаза живут, ищут, рассматривают с нетерпением, как будто они хотят с этой возвышенности все очень подробно осмотреть, рассмотреть, точно навсегда запомнить.
Что за мысли могут появиться в этих головах? Планы побега? Или же тоска...?
Тюрьма в этом городке лежала на холме. У наших ног бескрайнее озеро Байкал, воспетое во множестве сказаний, баллад и народных песен. Это печальные, однообразные песни о беглых и пойманных разбойниках. Неизвестные сочинили эти песни, неизвестные продолжали их петь.
Было воскресенье. В радостной неразберихе весело разливались светлые и глубокие голоса колоколов по ясному воздуху, звуки поднимались к нам, распространялись над застывшим морем Байкала и лились вдаль за близкий сибирский девственный лес.
Степан спокойно перекрестился, один из всех. Никто не заметил этого.
Вокруг городка протянулась узкая, белая, блестящая заснеженная полоса. Летом это была, наверное, пашня и пастбище. Но за ней лежала, похожая на черное чудовище, непроницаемая и всегда темная, сибирская тайга [девственный лес]; она не терпела людей внутри себя. Насколько глаз мог видеть, до дальнего горизонта, он видел на одной стороне черный лес, на другой блестящую снежную пустыню озера Байкал.
Заключенные и конвоиры здесь у озера всегда настороженно следят друг за другом, так как ежеминутно долгожданная свобода или смерть может подмигнуть одному или другому. Озеро Байкал, окруженное тайгой, граничит с Маньчжурией.
С некоторого времени я услышал, как заключенные вокруг меня перешептываются.
Их вечно настороженные глаза с нетерпением искали всюду что-то. Таинственный шепот шел из уст в уста, подкрадывался от камеры к камере. Байкал... Байкал... Байкал... Лишь позже я понял, что это слово значит для них.
Снова и снова здесь предпринимаются попытки побега. Близость границы слишком заманчива.
Если нескольким арестантам удается ускользнуть, то они убегают в тайгу, куда не проникает местами ни один солнечный луч, и поиски беглецов в очень редких случаях достигают успеха. В тайге каторжники проводят все лето, до тех пор, пока зима и наступивший холод, тем не менее, не принуждает их снова вернуться в тюрьму. Наказывают их тогда сравнительно мягко. Только совсем немногие остаются на зиму в лесу; они тогда никогда больше не возвращаются, превращаясь в лесных зверей в облике человека, и поэтому часто случается, что охотники на пушного зверя, крестьяне и домашние животные бесследно исчезают в этих далеких, темных лесах. Во время моей охоты в тайге и в Урале я часто находил следы таких зимовок сбежавших заключенных.
Прежние каторжники, поселившиеся после своего освобождения в близлежащих местностях, охотно помогают беглецам и снабжают их самым необходимым.
Так сидим мы на зимнем солнце. С низины доносится до нас колокольный звон, свободные люди идут спокойно своей дорогой, озеро Байкал отдыхает под блестящим снежным покровом, лес выглядит черным и неподвижным вплоть до далекой дали. Я оглядываюсь. Мои попутчики кажутся похожими на высеченных из камня, только в их глазах жизнь. Взгляд каторжан делает меня самого мрачным.
Мы сидим долго... но мы не ждем...
Приходит конвоир.
- Степан, иди в камеру, пришла твоя жена!
Трезвые слова, произнесенные безразличным тоном, но для души великана Степана они означают ликование. У него засветились глаза. Резко рвется он на нашей цепи, несется к тюрьме, я бегу рысью позади; мы прикованы друг к другу, но он больше не замечает это. Он забыл обо всем.
Мы добегаем до двери, Степан открывает ее. На мгновения конвоиры тянутся к револьверам, но их руки скользят вниз, на нас не орут и не ругаются, они отходят в сторону, освобождают нам дорогу, смотрят нам вслед и молчат. В их глазах не скрывается какая-то ненависть или ярость.