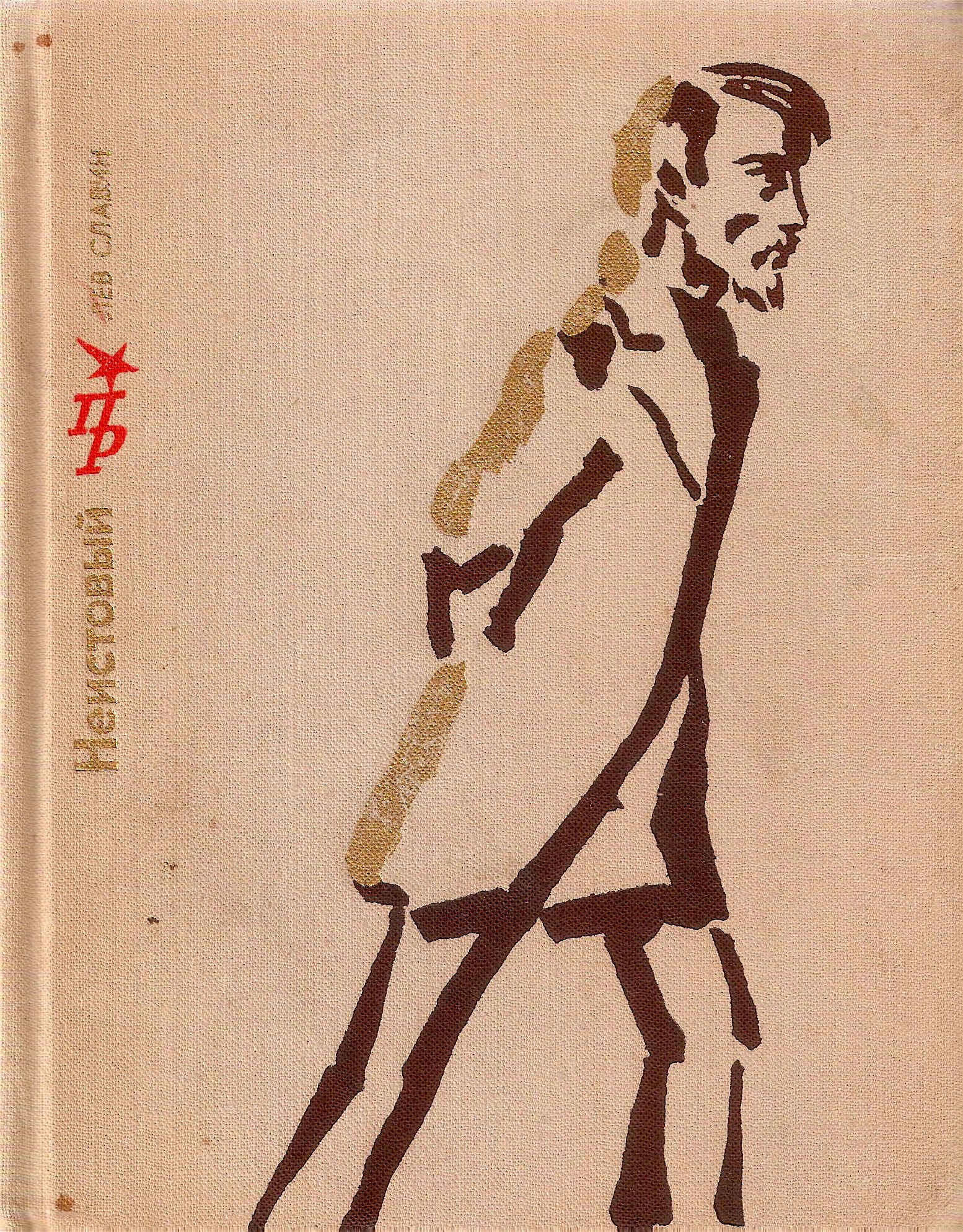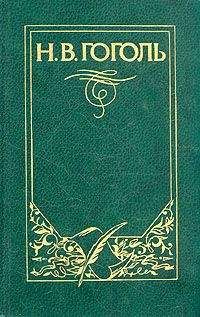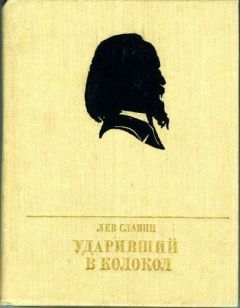То был некогда влиятельный, а ныне опальный Михаил Федорович Орлов, декабрист, пощаженный ради его могущественного брата. Бенкендорф глянул искоса на Орлова и заметил с обычной своей величественной вежливостью:
— Прошлое России поразительно, настоящее более чем великолепно, а будущее превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение. Именно с этой точки зрения надлежит понимать русскую историю и писать о ней.
Арестовали Николая Огарева. Герцен кинулся к Михаилу Орлову. Тот бессильно развел руками — сам едва уцелел. Он оставлял Герцена у себя обедать. Тот отговаривался, им владело нервное нетерпение, хотелось действовать, хлопотать за Николая, выручать его. Орлов доказывал, что это невозможно. Добавил:
— К обеду жду Чаадаева.
Это решило. Герцен остался. Он не был знаком с опальной знаменитостью.
Обед прошел как-то невесело. Орлов и Герцен были удручены. Чаадаев больше помалкивал и был, как потом рассказывал Герцен, холоден, серьезен, умен и зол. Теща Орлова, Раевская, тщетно пыталась оживить общество. В конце концов она сказала с досадой:
— Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!
Чаадаев кинул на нее взгляд и сказал с непередаваемой иронией:
— А вы думаете, что нынче еще есть молодые люди?
Московские друзья Белинского волновались. Как быть с ним? Ведь он ближайший помощник Надеждина по журналу. Да что говорить, именно он, а не Николай Иванович сейчас является душой «Телескопа». Не будет ему пощады. Так, может быть, лучше оставаться Виссариону в Премухине, не подавать духу, авось забудут о нем, и переждать в захолустье, пока разойдутся тучи? Так предлагал Костя Аксаков.
Но после того как стало известно, что на квартире у Белинского произведен обыск и изъяты какие-то бумаги, друзья решили иначе.
— У Уварова рука длинна,— сказал Клюшников,— он всюду достанет его. Нет, надо другое: отправить Виссариона за границу. Официально. В Берлин для изучения современной немецкой философии. Нынче это в моде, Берлин — философская Мекка, туда едут учиться со всего мира.
— А разрешат ли?
— Попробуем добиться.
— Не поднять Виссариону такую поездку. Он бедняк.
— Поможем,— сказал Вася Боткин.
А в Премухине обо всем этом еще ничего не знали. Идиллия длилась. Получен III том пушкинского «Современника». Там к радости Белинского помещен отклик на памятную речь Михаила Евстафьевича Лобанова в Российской Академии:
«Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века; но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Германская философия особенно в Москве нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей... их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно... Где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие злонамеренные писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, па коих основано благоденствие общества? И можно ли укорять у нас ценсуру в неосмотрительности и послаблении? Мы знаем противное. Вопреки мнению г. Лобанова, ценсура не должна проникать все ухищрения пишущих... Всякое слово может быть перетолковано в дурную сторону...»
Оба лагеря, и Лобанов, и «Современник», соблюдали правила игры: не называли имени Белинского, хотя речь шла главным образом о нем и в речи Лобанова, и в полных ума и такта строках «Современника». Они были не подписаны. Но кто же не знал, что редакционные статьи в «Современнике» пишет их издатель: Пушкин.
Нащокин не сразу принялся за поручение Пушкина связаться с Белинским. То дела игорные закрутят Павла Войновича, то он закатится на дачу, а то и Белинского не застанешь,— у Виссариона в это время разгар романа с незнакомкой, которую он называл «гризетка». А когда в августе Нащокин заехал к нему на квартиру во дворе Московского университета на Моховой и поднялся на второй этаж ректорского домика, то вышедший из комнаты Белинского молодой человек, отрекомендовавшийся: «действительный студент Вологжанинов», объявил Нащокину, что Виссарион Григорьевич ныне гостит в имении Бакуниных в Тверской губернии близ Торжка на речке Осуга.
Испытывая некоторые угрызения совести, Нащокин кинулся к ближайшим друзьям Неистового, все досконально разузнал и, гордый своей деловитостью, отписал Пушкину:
«Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, три тысячи рублей ассигнациями. «Наблюдатель» предлагал ему пять. Греч тоже его звал. Теперь, если хочешь, он к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать. Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю».
Каждодневно осведомлялся Нащокин, нет ли ответа от Пушкина. Удивлялся. Сердился. Наконец написал вторично:
«...Отпиши мне хоть строчку, жив ли ты и каковы твои делишки. Не знаю, получил ли ты мое письмо или нет. Ждал я тебя в Москву по твоему обещанию; не знаю, почему ты не приехал...»
Политическая наивность добрейшего Павла Войновича безгранична. Сам же написал в первом письме «чей журнал уже запрещен» и не заметил зловещего смысла собственных слов, не понял, что началась расправа с сотрудниками «Телескопа» и что в этом причина молчания Пушкина, ибо на Белинского, как на ближайшего сотрудника закрытого журнала, уже наложено клеймо отверженного. Когда же тучи над Белинским несколько истаяли — это произошло в конце того же тридцать шестого года,— Пушкину уже стало не до Белинского, не до «Современника», не до литературы. Он стремительно шагал сквозь грозы своей личной жизни к роковому январю тридцать седьмого года.
Без Пушкина
Что за черная немочь напала на нашу литературу? Кого убьют, кто умрет, кто изнеможет преждевременно.
Вяземский. Из письма к Жуковскому.
В Премухине, конечно, ни о чём об этом не подозревали. Идиллия длилась. Правда, все явственнее проступали на ней пятна противоречий. Доходило до ссор.
Ссор? Может быть, это через меру пышно сказано? Столкновений между Виссарионом и Мишелем было немало. Два страстных характера, две нетерпимости. В конце концов это была вражда посреди дружбы. Кто начинал? По-разному. Но справедливость повелевает сказать, что все же чаще повод подавал Мишель. Сейчас я расскажу о ссоре одной из первых по времени. Она была не самой крупной. О, далеко не самой