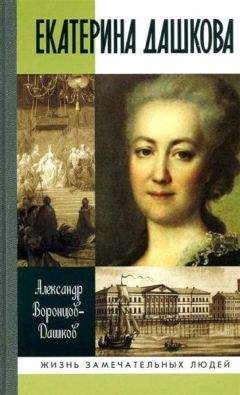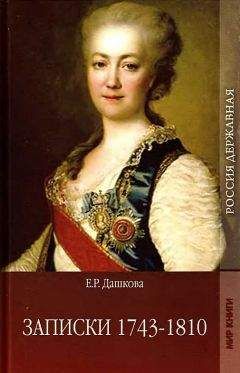Ее уединение было прервано только визитом Семена, который осенью 1760 года путешествовал по России, инспектируя семейные владения. Опять он пишет домой о сестре, поддерживая мнение о том, что Дашкова счастлива среди своих новых родственников[88]. К концу года отпуск Михаила Дашкова из Преображенского полка закончился и семья вернулась в Москву. Екатерина не желала возвращения мужа в Петербург, в то время как доктора запретили ей путешествовать из-за новой беременности. Она написала отцу, умоляя его употребить свое влияние и добиться продления отпуска мужа на пять месяцев, но безуспешно: Дашков должен был явиться в полк. С его отъездом Екатерина заболела лихорадкой и горячкой, а затем впала в депрессию, рыдания и апатию до такой степени, что перестала писать мужу. Она знала, что пока она страдает от одиночества, эмоциональной боли и физического неудобства своего положения, ее муж ведет приятную жизнь молодого офицера в столице — играет, пьет, участвует в карнавалах и санных праздниках в Ораниенбауме. Она также подозревала, что он не был столпом супружеской верности.
Положение стало особенно трудным в последнюю неделю беременности. Была зима, повитуху уже вызвали к началу родов, и в этот самый неподходящий момент потрясенная Дашкова узнала от служанки, что муж вернулся в Москву. Но вместо того чтобы кинуться к постели рожающей жены, он самым невероятным образом остановился в доме своей тетки. Между супругами явно не все было в порядке, и Дашкова признавалась, что больше всего ее бесило малейшее подозрение в его неверности. «Нужно представить себе семнадцатилетнюю… женщину, с горячей головой, живым воображением» (22/44), как Дашкова описывала себя, которая решила все в одно мгновение. Вопреки их энергичным возражениям, акушерка и старая служанка получили приказ помочь шатающейся и еле стоящей на ногах Дашковой спуститься по лестнице вниз, где ее путь прервали начавшиеся схватки. Боясь, что звук проезжающих саней будет услышан и ее эскапада раскроется, Дашкова с помощью двух женщин дошла холодной и снежной московской ночью до конца улицы, где схватки опять настигли ее. Каким-то невероятным образом достигнув цели, она поднялась по длинной лестнице и, несмотря на боль, предстала перед потрясенным мужем, который бросился объяснять ей, что схватил простуду и не хотел ее заразить. Дашкова потеряла сознание; испуганная свекровь доставила ее домой, и меньше чем через час она родила сына, которого назвали, как и отца, Михаилом. Это был здоровый мальчик: она произвела на свет не просто ребенка, а желанного наследника. Весь дом Дашковых радовался той ночью. Призвали священника для благодарственной службы в честь рождения ребенка — долгожданного продолжения фамилии Дашковых. Физически и эмоционально опустошенная напряжением последних двух дней, Дашкова не могла сдерживать рыдания. Муж, который теперь спал в соседней комнате, пытался развеселить ее, посылая смешные и даже ребяческие записки. Дашкова приходила в себя медленно, однако она была молода, и вскоре силы вернулись к ней. Она восстановила порядок и гармонию в семье — пусть лишь на время.
Оставив младенца на попечении свекрови, Дашкова с мужем и дочерью вернулась в Петербург после двухлетнего отсутствия 28 июня 1761 года — ровно за год до событий, навсегда изменивших ее жизнь и историю России. «День этот год спустя стал самым памятным и славным днем для моей родины» (25/46), — писала Дашкова. Следующие двенадцать месяцев будут посвящены главным образом планированию и осуществлению заговора с целью свержения ее крестного — императора Петра III. Дашкова была счастлива сбежать от чопорной жизни в семействе мужа и вернуться в знакомое столичное окружение, где она «была рада… не чувствовать себя постоянно сбитой с толку теми обычаями, с какими мне приходилось сталкиваться в Москве» (24/46). Подъезжая к снятому мужем особняку и глядя из окна кареты на широкие проспекты и строгую красоту ее родного европейского города, она почувствовала себя, наконец, дома. Но никто ее здесь не встречал, поэтому она немедленно отправилась с визитами к дяде и отцу — их обоих не было в городе. Радость, с которой она вернулась в столицу, была подпорчена еще и матросами из Адмиралтейства, которые в ее отсутствие вломились в дом и ограбили его.
В то лето императрица Елизавета жила в Петергофе, а великая княгиня Екатерина — в Ораниенбауме, тогда как великий князь Петр готовился к занятию трона, окружая себя влиятельными аристократами. Однако у Дашковой не было желания возвращаться к малому двору Петра, и она получила разрешение жить в доме отца, расположенном на берегу Финского залива[89]. Проведенные в Москве годы и материнство изменили ее, она стала взрослой. Когда Дашкова, наконец, встретилась со своими родными, они заметили, что она не очень хорошо выглядит, похудела и осунулась. Не менее бунтарская и идеалистичная, она уже больше не была наивной пятнадцатилетней девочкой. Если в прошлом она презирала фривольность елизаветинского двора, теперь она совершенно не выносила идеализацию Петром Фридриха II Прусского и его нелепые военные игры с льстивыми голштинскими солдатами. Еще более усложняло ситуацию то, что рядом с ним оказалась Елизавета Воронцова, его любовница и сестра Дашковой. Петр, Елизавета и их окружение отправлялись в императорскую резиденцию в Ораниенбауме и там к своему полному удовольствию вместе с голштинскими гвардейцами играли в войну. Они маршировали с воображаемой армией, курили, пьянствовали и по-немецки общались с «генералами», которых Дашкова описывала следующими словами: «Эти голштинские генералы были из прусских унтер-офицеров, либо из сыновей голштинских и немецких сапожников, покинувших родительские дома» (26/47). Она считала отвратительными такие глупые и ребяческие развлечения; ее собственные «игры» с Преображенской гвардией будут настоящими и серьезными.
Дашкова, восприимчивая и эрудированная женщина, смотрела на развлечения сестры с презрением и насмешкой. В «Записках» она язвительно описывала двор Петра в ряде изрядно театрализованных сцен, в которых часто высказывала свои мнения и суждения мужским голосом[90]. Дашкова при малейшей возможности искала общения с Екатериной, и ее склонность к великой княгине не прошла незамеченной. Согласно ее рассказу, Петр III как-то отвел ее в сторону и предупредил, что «разумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые выбрасывают лимон, выжав из него сок» (25–26/47). На самом деле, предостережение Петра раскрывает собственные опасения Дашковой касательно Екатерины, выдавая ее чувства относительно склонности ее подруги использовать людей. Таким образом, она заставляет Петра повторить высказывание Кастера, которое Петр не мог знать, поскольку оно было напечатано после его смерти, и которое сама Дашкова прочла много позже. Кастера написал: «Когда она (Екатерина II. — А. В.-Д.) использовала кого-нибудь, как ей хотелось… она поступала с ним, как обычно мы поступаем с апельсином: высасывая сок, мы выбрасываем кожуру в окно»[91]. Дашкова могла также знать, что Вольтер процитировал высказывание Фридриха II о нем: «Не беспокойтесь: мы выжмем апельсин, а затем, когда проглотим сок, выбросим его»[92]. Итак, Дашкова просто заменила апельсин на лимон, вложила свое мнение в чужие уста и тем самым дистанцировалась от личных чувств, дав их высказать Петру, ее признанному врагу.