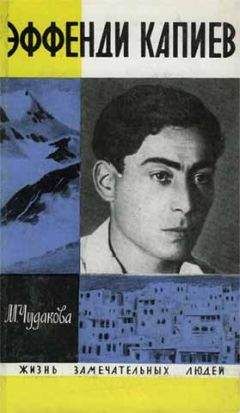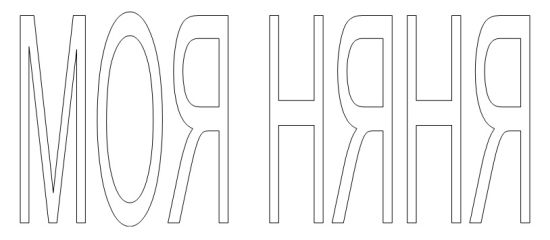Литературный авторитет его по-прежнему непререкаем. Но его молчание в эти годы почти нарочито, оно бросается в глаза. Однажды он пытается даже объяснить его и обосновать:
«Неужели вы думаете, что я до сих пор не мог написать и издать в Даггизе 2–3 книжонки? У меня все-таки опыт есть, я мог бы быть тоже среди признанных в нашем масштабе писателей. Но я не издаю потому, что я считаю, что мои произведения еще незрелые и ничего не дадут читателю. Это будет излишняя халтура, которая только еще больше наводнит рынок, и без того наводненный ею.
Я не хочу сдавать их туда и правильно делаю. (Голос из президиума: «Боишься?») Боюсь или не боюсь — я предъявляю к себе большие требования и хочу выступить с оформившимся, зрелым лицом…» Это сказано в июне 1934 года на первом съезде писателей Дагестана. Какой накал скрытого честолюбия, страстной мечты о будущей победе в этих словах о больших требованиях и о писателях, «признанных в нашем масштабе»! Ему не нужно такого признания.
Но быть «признанным в нашем масштабе» критиком и литературным деятелем Капиев согласен. Мало того — он сознательно к этому стремится.
Критика во многих отношениях выступает сейчас на первый план для будущего писателя Эффенди Капиева. «Несомненно, товарищи, что победу на литературном фронте организует критика», — заявляет он на съезде писателей Дагестана. (Любопытна сама терминология, к которой он прибегает, ходовая терминология времени.) Сам он, конечно, хочет быть там, где организуется победа. «Вопрос о критике самый назревший и стержневой вопрос развития дагестанских литератур… Будем называть вещи своими именами — здесь критика, за редким исключением, пустое место». Критика кажется Э. Капиеву единственным средством повысить общую культуру дагестанского писателя, связать его с литературной жизнью «центра», преодолеть провинциальность литературной работы. То, что ясно осознавалось формирующимся писателем для себя, сейчас же переносилось им в выступления, доклады, статьи о насущных нуждах литорганизации Дагестана. «Что же получается у нас? Мы, в сущности, бредем ощупью, наши писатели учатся кустарно, так как мы не сумели организовать глубокую творческую учебу. При отсутствии критики, национальные писатели обезличены и оторваны от литературной жизни страны. Многие волнующие сегодня писательскую общественность Союза проблемы часто проходят мимо нас». Это его особенно страшит, ибо для себя лично он уже ясно ощущает необходимость вырваться за границу узкой литературной среды, несформировавшегося литературного процесса, сниженных критериев работы.
И когда в своей речи на первом съезде писателей Дагестана он, обращаясь к нескольким десяткам сидящих перед ним участников съезда — народных поэтов и начинающих писателей, — произносит, почти выкрикивает свой лозунг: «Да здравствует зрелость, и никаких скидок!», то, конечно, эти слова обращены, в сущности, к самому себе. И лишь благодаря его темпераменту, его желанию зажечь, заразить всех своим собственным отношением к писательскому делу слова эти вырвались на поверхность, прозвучали с трибуны, поразили слушателей, всех взволновали — на время — и запомнились навсегда.
Он возмущен тем, что писатели не знают имени Багрицкого; он спорит с теми делегатами съезда, которые говорят, «что сейчас для дагестанской литературы самое главное — это настежь открытые двери перед начинающими писателями, чтобы каждое написанное ими слово печатали бы в Даггизе», и возражает: «Это поведет к паразитизму». Здесь ему и приходится привести в пример собственное принципиальное непечатание — упрямое, требующее немалой выдержки и, конечно, многократно им обдуманное. Он не хочет довольствоваться незрелыми плодами. К тому же его работа над собственными рукописями, требующая сосредоточения, сейчас на втором плане, усилия его в значительной степени отвлечены в сторону.
Здесь вспоминается еще одно выступление на том же пленуме 1932 года. «В последний период была забыта литература, был заброшен станок, — говорил тогда Михаил Слонимский. — При том колоссальном количестве тем… которые стояли перед литературой, люди занимались не литературой, а организационной склокой и организационной борьбой за власть… Шла все-таки квалификация на командира, на организатора, а не настоящего писателя, обладавшего соответствующим мастерством». Это свидетельство непосредственно заинтересованного лица, участника событий, и к словам его можно отнестись с доверием.
Эффенди Капиев и два года спустя, в 1934 году, все так же увлечен повышением своей квалификации «на организатора». Он и мыслит в этих категориях и именно в этих терминах выражает на съезде свои представления о литературном процессе: «И так как мы в бою, так как вокруг нас разворачивается фронт, если пошли говорить образно, и так как наш писатель находится на передовой линии огня, то успех зависит, во-первых, от оперативного руководства штаба, то есть Оргкомитета, во-вторых, успех зависит от командиров литературы, то есть от критиков и, в-третьих, от сознательности самой армии». Такой представляется ему иерархия литературной жизни, и его собственное в ней место находится где-то в непосредственной близости от «командных пунктов».
…И вот июньский день 1934 года на исходе, и Капиев, разгоряченный своей речью и слишком шумной, приподнятой обстановкой последнего дня I съезда дагестанских писателей, сбегает по ступенькам и выходит, наконец, на воздух. Душный махачкалинский вечер не освежает его. Он идет, умеряя быстрые свои шаги, по набережной, по парку, и вялый ветер доносит, наконец, до него несоленую, неморскую, озерную свежесть Каспия.
Юноши двигаются по бульвару группами, медленно, с достоинством, выгнув грудь, с излишним усердием выводя вперед то одно плечо, то другое — идут гоголем, как сказали бы в России. Он проходит мимо — их ровесник, озабоченный, не праздный. Внимательно и осторожно он рассчитывает свою жизнь. По-хозяйски располагается в будущем, совершая обычную для сходных с ним натур и простительную ошибку — ему кажется, что будущее принадлежит ему так же верно и надежно, как прошлое. Каждый ушедший год он мог бы, по слову поэта, окликнуть поименно — и каждый отзовется ему своим собственным голосом. Не только годы, но — дни! Каждый истекший день он может взвесить на ладони, и ладонь его ощутит тяжесть.
Он идет уже по улицам, удаляясь от моря. Вечер набирает силу и выманивает всех из домов — вдохнуть недолгую прохладу. Маленькие дети чинно сидят без штанов на земле, женщины сидят у стен своих домов на корточках, расставив круглые, завешенные темными подолами колени, и руки их взлетают перед самым лицом собеседниц, обозначая кульминацию рассказа. Старики расположились на детских стульчиках с подушками на сиденьях. Подбородком они опираются на посох. И острый, неподвижный их взгляд из-под нависших бровей, из-под тяжелых папах не провожает прохожего, а уставлен в одну и ту же не видную никому точку.