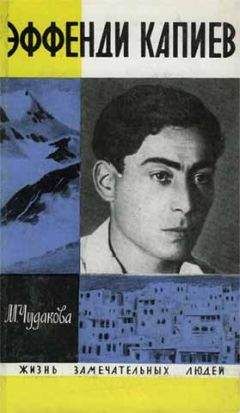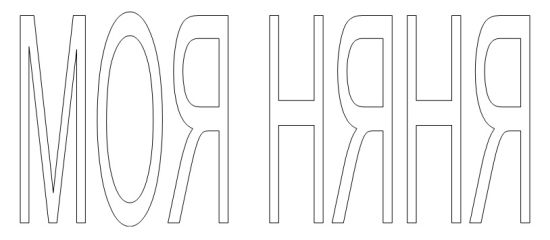Весной 1933 года в Дагестан приехал Павленко, начавший в это время книгу о Шамиле. Страна эта поразила его. 11 мая в «Литературной газете» печатается очерк Павленко «Дагестанский опыт». «Когда будет написана «Культурная революция в образах и картинах», она представит книгу редчайшего героизма, неожиданного, главным образом, тем, что речь пойдет о таких гуманных, никак не выдающихся и в общем довольно будничных вещах, как азбука и таблица умножения».
А в июле того же года в Дагестан выехала, как тогда это называлось, «писательская бригада» — В. Луговской, Н. Тихонов, П. Павленко. Они проехали весь южный Дагестан, побывали там в Дербенте, в Ахтах, в Ашага-Стале у Сулеймана Стальского, увидели нагорную часть северного Дагестана — аулы Чох и Гуниб.
В Махачкале русские писатели познакомились с Эффенди Капиевым, принявшим их в своем доме. Они были ошеломлены. Их поразил этот двадцатичетырехлетний горец, так профессионально осознавший опыт русской литературы и так по-хозяйски владевший огромным наследием разноязычной народной поэзии своей страны. Перед ними был вполне сложившийся литератор, с тонким вкусом, со своей собственной системой эстетических оценок, с верным чувством прекрасного — не только изначально заложенным в его одаренной натуре, но, несомненно, воспитанным многолетними размышлениями над поэзией и прозой разных народов.
«Готовый» писатель стоял перед ними — писатель, не написавший, однако, еще ничего, что удовлетворило бы его собственный взыскательный вкус.
Литература волновала его как любовь, как обида. Она была его судьбой, его будущим — всем, ради чего только и стоило жить.
Пылкость этой затаенной, но то и дело прорывающейся страсти обжигала его собеседников. Мысль его кружилась вокруг тайн писательства с неотступным, смущающим упорством искателя кладов.
«С Эффенди Капиевым я впервые познакомился летом 1933 года, в Махачкале, — вспоминал впоследствии Н. Тихонов. — Все мне было внове в этом приморском городе, за которым вставали горы — преддверие многоязычного, многоликого Дагестана. В темноте вечеров таинственно белела высокая волна Хвалынского моря. Шумели большие деревья на маленьких улицах, и так к месту звучали стихи в скромной квартире Эффенди. Я почувствовал тогда, что хозяин и хозяйка — жена Эффенди, Наташа, — больше всего на свете преданы поэзии, и эта чистая преданность наполняет их жизнь особой, гордой радостью.
Тут говорили о поэзии широко и свободно. Тут читали русских и горских поэтов, называли мне неизвестные имена, я слышал в переводе отрывки народных песен с поразительными образами и ритмами».
В поездке писателей по Дагестану их сопровождал Роман Фатуев — тоже русский писатель, давно связавший свою литературную жизнь с этой страной, друживший с Капиевым. Позднее Фатуев вспоминал: «Удивительно простой и естественный в обращении, Павленко очень импонировал Капиеву своей манерой держаться и разговаривать…Он охотно вступал в спор на самые щепетильные, узкопрофессиональные темы. Эффенди Капиев, неустанно стремившийся понять секрет писательского ремесла, с жадностью ловил каждое слово…»
Для Капиева, как и для Фатуева, Павленко «был уже признанным мастером, писателем «с именем», неоднократно бывавшим у Горького в Крыму (что тоже имело немаловажное значение)». В их глазах он вполне полноправно представлял литературу; трудно было и вообразить, кто бы мог им в то время более импонировать.
Капиев не мог не чувствовать себя польщенным, взволнованным. Русская литература как бы сама явилась к нему на дом и вела с ним запросто разговоры о тайнах своей неотразимой силы, которые он пытался разгадывать с детства.
А первое, беглое знакомство Капиева с Павленко — еще весной 1933 года — началось с обиды, с весьма резких слов. Об этом рассказывает Наталья Капиева, говоря о трудностях выбранного Капиевым пути, о недовольстве «некоторых соотечественников, упрекавших молодого писателя в отступничестве», и недоверии тех, для кого русская литература «изначально» была родным домом: «Когда Капиев в 1933 году пришел к нему поделиться своими замыслами, Павленко сказал: «Куда вы суетесь? По-русски я все равно напишу лучше вас».
Пришлось перебороть и это: сомнения, обиды, боль».
Теперь Эффенди чувствовал себя более свободно, ненапряженно — ему, человеку «без имени», больше не надо было ежеминутно самоутверждаться перед этим уже давно и, как казалось Капиеву, прочно осуществившимся писателем, отвоевывая у собеседника право на равенство в беседе. «Эффенди прямо, без обиняков, ставил вопросы» и получал на них подробные, с обдуманной профессиональной точностью выраженные ответы. Мастерская литературы зашумела вокруг, загрохотала своими молотами, зазвенела напильниками и напильничками, оттачивающими тонкие детали. Творчество предстало в наиболее близком ему обличье — высокого ремесла, многолетними усилиями дающегося уменья, родственного тончайшему уменью восхищавших его кубачинских златокузнецов. Литература придвигалась. Она была кем-то уже обжита. Притягательность ее возрастала многократно, разгорячала воображение.
Так прошел 1933 год, пошел 1934-й, годы его относительного благополучия. Его имя, уже широко известное в Дагестане, становилось известным и за его пределами — там о нем знали, главным образом, как о талантливом переводчике горской поэзии.
Приближалось, казалось бы, время более спокойного осуществления своих собственных, давно созревших, до деталей обдуманных замыслов. Ему исполнилось двадцать пять лет; пора было ему целиком обратиться к литературе. Но не чины, так должности, всевозможные литературно-общественные обязанности, когда-то так охотно взятые им на себя, теперь держат его прочно и требуют все новых усилий. И все это тоже кажется нужным, необходимым для устройства своей писательской судьбы. К тому же есть еще время.
Все еще занят он предуготовлением к творчеству. Он все возводит стены своего дома — для того, надо думать, чтобы потом со спокойной душою отдаться тихому, требующему уединения труду литератора.
Человек достраивает свой дом и не знает, что жить в нем ему не придется. И нам, уже знающим это, хочется крикнуть ему:
— Бросай все! Бросай, не медли! Делай главное, что предназначено тебе, что бродит в крови и требует осуществления!..
Но он не слышит этого голоса, голоса позднего разума. и тщательно возводит стены.
В конце же 1934 года почва под его ногами самым серьезным образом заколебалась. События назрели к лету. 12 августа 1935 года в «Дагестанской правде» появилась статья того самого Исмаила Аурбиева, пьесы которого когда-то так неосторожно были названы Капиевым галиматьей. Статья называлась «Буржуазные тенденции в дагестанской литературе», и в ней было разъяснено следующее: «Классово враждебные Советской власти элементы — это наглое охвостье, последыши разгромленных националистических и мелкобуржуазных «идеологов» подбирали весь литературный хлам из заплесневелого арсенала контрреволюции и, чуточку подлатав, совали в сборники рядом с воинствующей поэзией действительно советских поэтов и писателей». Этот «литературный хлам» подбирали и латали писатели Капиев и Аткай. Против постановления обкома, на которое опиралась статья, и «коллективного письма» дагестанских писателей, где «последыши» были еще раз поименованы, выступили «Известия» в статье, перепечатанной 29 августа в «Дагестанской правде», — «Самокритика по-дагестански».