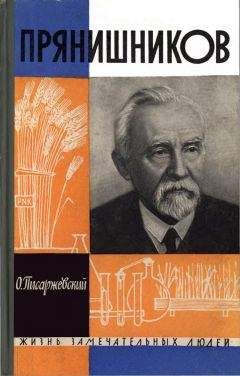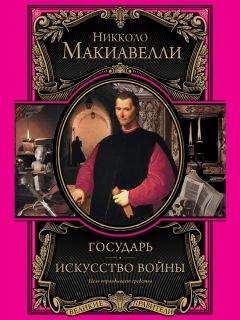Излагая результаты своих опытов, Тимирязев высмеивал лучшие чувства немецких физиологов. Он доказывал, что, по существу, они пытаются возродить в биологии идеи, родственные идее «флогистона», абсолютно в духе средневековых алхимиков. Пора было поставить его на место! Вильгельм Пфеффер сам взялся подтвердить вывод, сделанный Дрепером, что фотосинтез идет под воздействием «физиологически активных» лучей. По мнению Сакса и Пфеффера, это в полной мере удалось. Значительная часть немецких ботаников признала работу Пфеффера образцовой, а отповедь, данную им «московскому наглецу», неопровержимой. Да, несомненно, процесс воздушного питания растения протекает с наибольшей силой в желтых лучах. Полемические приемы Пфеффера не отличались ни новизной, ни сдержанностью. Для обличения Тимирязева Пфеффер навязывал ему гипотезы, которые тот не высказывал, и даже, как об этом с тонкой иронией писал Тимирязев, «бросил тень на мою нравственную личность».
На защите своей докторской диссертации К. А. Тимирязев вызвал веселое оживление в аудитории, наглядно показав, что его противники просто-напросто не умели работать с измерительными приборами. Одной из главных составных частей прибора, при помощи которого Пфеффер взялся опровергать тимирязевские исследования, была так называемая адсорбционная трубка — в ней происходит поглощение углекислоты зеленым листом, освещенным солнечным светом.
— При взгляде на прибор, — говорил Тимирязев, — озадачивает отверстие на верху адсорбционной трубки, заткнутое пробкой. Но когда обратишься к тексту, то невольно разражаешься смехом. Оказывается, что ни доктор Пфеффер, ни его учитель Сакс не знали, как поднять уровень ртути в своих трубках, и для этого снабдили их отверстием, затыкаемым пробкой. Одного этого факта достаточно, чтобы иметь понятие о том уровне, на котором стоит экспериментальное искусство в Вюрцбургском ботаническом институте…
Немецкие ученые пренебрегли азбучным правилом: сосуды, где измеряются газы, должны быть по возможности глухими.
Почему это в данном случае было так важно? Да потому, что совершенство аппаратуры определяет возможность анализа микроскопических порций газа. Тимирязев год от года совершенствовал это искусство, поражая точностью своих газовых анализов ученых всего мира.
Знаменитый французский ученый, один из основоположников физической химии — Марселей Бертло, говорил ему:
— Каждый раз, что вы приезжаете к нам, вы привозите новый метод газового анализа, в тысячу раз более чувствительный!
Не владея столь совершенной техникой, Пфеффер не мог работать с чистым спектром и вынужден был повторить ошибку Дрепера — работать с большой щелью. Ведь с уменьшением щели уменьшалось и количество света, падающего на трубку с листом, замедлялся процесс фотосинтеза и соответственно уменьшалось количество газа, который подлежал исследованию.
Спор «о красном и желтом» завершился полной победой Тимирязева. В конечном счете и вюрцбургские ботаники признали правоту русского ученого, но признали по-своему — приняли точку зрения Тимирязева, не называя его имени. Заслуги русского ученого в изучении оптических свойств хлорофилла были ими приписаны другим ученым.
Мы привели здесь этот характерный эпизод истории проникновения методов точного естествознания в биологию еще и для того, чтобы подчеркнуть значение важнейшей тенденции, под знаком которой сейчас происходит бурное развитие биологических исследований «на молекулярном уровне». Но, отвлекаясь от истории, нельзя не отметить, что этот спор между точной наукой и примитивной наблюдательной биологией продолжает для нас, современников космической эры, по-прежнему оставаться острым.
Все это живо припомнилось Прянишникову при встрече с Пфеффером. Вероятно, кое-какие не очень приятные воспоминания эта встреча пробуждала и у Пфеффера. Но он был сдержан и учтив. Он не собирался распространять на молодых русских ученых неприязнь, которую вызвали в нем «опрометчивые» выступления их соотечественника. Германская физиологическая школа стояла выше этих нападок…
Мог ли подозревать величественный и снисходительный Пфеффер, что не пройдет и года, как тот самый русский юноша, которого он так обязательно принимал у себя (чтобы на следующий же день забыть его имя), нанесет еще более чувствительный удар по его научному самолюбию? Впрочем, то был удар по той же самой точке, по которой бил и Тимирязев, — по метафизическому, догматическому подходу к познанию жизненных явлений…
Пфеффер любезно предложил молодым русским практикантам несколько тем на выбор. Среди них были подходящие и для Прянишникова и для Коссовича. Они поблагодарили, сказали, что подумают, и решили еще раз съездить в Геттинген для сравнения. Там они и остались.
В Геттингене их гостеприимно приняла лаборатория сельскохозяйственной микробиологии «младшего Коха» — Альфреда, брата знаменитого борца с туберкулезом Роберта Коха. Кох и его сотрудники находились под свежим впечатлением работ русского микробиолога Виноградского, совсем недавно обнаружившего особую расу бактерий, разлагающих в почве аммиак. Соотечественников Виноградского здесь приняли буквально с распростертыми объятиями.
Практикум у Коха был поставлен весьма основательно, однако Прянишников, верный себе, нашел время для того, чтобы осмотреть «сливки» сельскохозяйственной Германии: известные опытные станции и хозяйства, а также Стасфуртские копи с единственными известными тогда в мире мощными залежами калийных солей.
Большое значение для последующего имел визит в Цюрих к Шульце. Прянишников договорился с Шульце, что он останется у него на всю вторую половину своей командировки, а на зиму отправился в Париж.
Деловые посещения начались с Парижского агрономического института, но он оказался всего лишь «фабрикой дипломов». Большинство профессоров были в нем гастролерами. Пришлось искать другие возможности для научной работы. Прянишникову и Коссовичу казалось, что они нашли их в институте Пастера, где уже заметное место занимал Мечников.
Но Прянишников нашел, что в институте Пастера можно успешно работать лишь тому, кто уже хорошо владеет научной методикой. Здесь неоткуда было ждать помощи новичку, еще только собирающемуся научным методом овладевать. Прянишников был достаточно скромен, чтобы не приписывать себе в этом отношении слишком много. Поэтому он решил не задерживаться в Париже, а с весны перебраться в Цюрих, чтобы вернуться «на надежный путь химических методов исследования», как он сам мотивировал свое решение.
Оставшееся время он использовал для посещения музеев, лекций, повидал Бертло, Жерара, побывал на опытном поле Грандо в Парк де Пренс, контрольной станции на Рю де ля Лилль, биологической станции в Фонтенбло. Затем по установленному им для себя обычаю он совершил две большие поездки для ознакомления с опытными станциями и постановкой преподавания в школах.