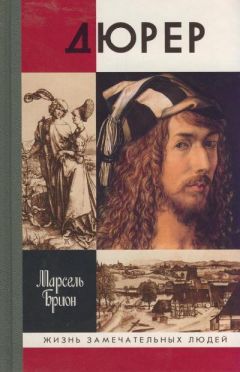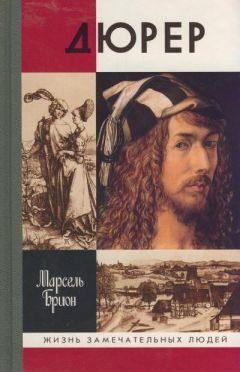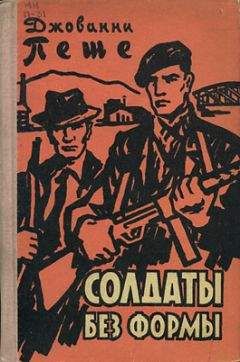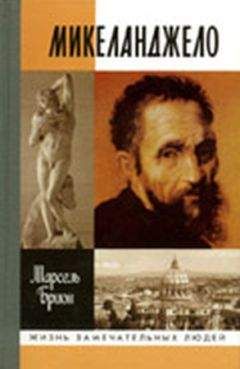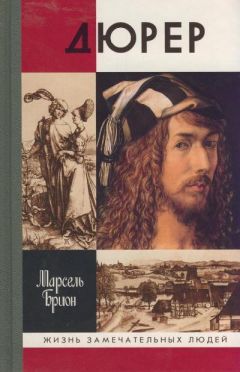Благодаря ему Дюрер сблизился с Виварини, Антонио и Бартоломео, которые одними из первых порвали с традициями готики мастеров прошлого века и медленно, в поисках собственной манеры письма, освободились также от влияния Пизанелло и Джентиле да Фабриано, художников с материка, которых не пленил волшебный дух островов.
Медленно, шаг за шагом, Виварини добились творческой независимости, находясь в изоляции на острове, вдали от ярмарки идей, создавая собственный оригинальный стиль, который сделал их подлинными инициаторами современной венецианской живописи. Но пока они еще не сформировали окончательно собственный независимый стиль; они все еще были отягощены архаическим маньеризмом, были слишком деликатны в изображении пейзажей. Их персонажи еще сохраняют холодность, а цветовая гамма не вышла за рамки традиционной, но дух новаторства настолько силен и так велико желание освободиться от штампов, унаследованных от Падуи, Вероны и Флоренции, что Дюрер с горячей симпатией изучает работы этих мастеров, сбросивших путы Средневековья, в творчестве которых уже пробивается и начинает расцветать дух Ренессанса. Особенно привлекает Дюрера самый молодой Виварини — Альвизе, наиболее близкий ему по возрасту и стилю, обладающий талантом, способным обновить эстетику и технику эпохи.
Как ни ценен был вклад этих художников, тем не менее Дюрер не мог научиться у них тому, ради чего он прибыл в Венецию. Он сам уже превзошел их в мастерстве, чувствует себя новатором в большей степени, чем они: готика, от которой они так и не смогли до конца освободиться, оставляет их позади наиболее передовых течений, с которыми Дюрер уже познакомился, впитывая все новое с ненасытной жадностью.
Кто же те венецианцы, у которых он получит, наконец, уроки, которые ему не смогла дать ни одна область Германии? Он отправляется ознакомиться с недавно законченной работой Витторе Карпаччо — циклом картин, посвященных святой Урсуле. Здесь он столкнется с новейшим и наиболее изысканным проявлением замечательного таланта, одновременно доброго и глубокого, по имени Карпаччо.
В его работах не осталось и следа готики. Дух Ренессанса возвышает его картины настолько, что, кажется, сама природа перешла на его картины. Его религиозные чувства полны значительности и нежности. Его любовь к жанровым сценкам, забавным деталям не мешает ему подняться над простым воспроизведением увиденного. Он умеет рассказывать и делает это блестяще, со смесью симпатии, юмора, беспечности, которые маскируют размах его таланта. Он не просто художник — он поэт с сердцем, чутким к человеческим драмам, утонченным умом, живым интересом ко всему. Прекрасный хроникер грандиозных венецианских праздников, он предпочитает пышным процессиям на площади Святого Марка теплую задушевность домашнего гостеприимства, девственный покой комнаты молодой девушки, куда проникают ангелы в лучах солнца, уголок порта, где покачиваются парадные лодки со свисающим в море углом турецкого ковра.
В попытке изобразить реальность и включить ее в фабулу, которую создает его воображение, Карпаччо достиг такой степени изящества, сочетающегося с нежной и целомудренной сдержанностью, что невозможно оторвать взгляд, привлеченный этим удивительным открытием. Карпаччо совершенно не похож на других художников Мурано. Хотя он и сформировался в школе Виварини, он продвинулся намного дальше в умении отражать реальность, одновременно объективно и одухотворенно. И тем не менее остается еще что-то, что его удерживает в последний момент сделать последний, решительный шаг, — его увлечение жанровыми сценами, его сдержанность, в которой его упрекали некоторые, и, несомненно, недостаток смелости и мужества. Его мастерство в изображении пейзажей, пространства, воздуха, легкого, эластичного и вибрирующего, одухотворенной человеческой красоты, его мечтательная и нежная меланхолия — все это восхищало Дюрера. Он очень внимательно изучал Карпаччо; он даже заимствует у него некоторые живописные детали, в которых тот был мастером. Но не Карпаччо произведет на него ослепляющее впечатление, станет главным его открытием, которое и через десять лет, когда он снова вернется в Венецию, заставит снова обратиться к Беллини как к неоспоримому авторитету. «По-прежнему самый выдающийся художник Венеции», — напишет он тогда, преклоняясь перед мастером, которому он многим обязан.
В самом деле, в толпе художников венецианской школы, среди которых зарождалось новое искусство, которое превзойдет по совершенству и смелости всю итальянскую живопись этого века, выделялась личность, настолько мощная, и авторитет, настолько неоспоримый, что ему невозможно было отказать в первенстве. «Всегда наиболее выдающийся художник Венеции».
Дюрер никогда не ошибался в своем выборе. Инстинктивно он тянулся к Беллини, как страдающий от жажды путешественник бросается к свежему источнику. Молодой художник, который получил много ценных уроков во время своего «тура по Германии» и на первых этапах путешествия по Италии, понимал, что у Джованни Беллини он научится чему-то более важному, чем скромному прогрессу художников Мурано или Карпаччо. Джованни Беллини — мощный талант, знаковый для своей эпохи, открывший новый путь в мире прекрасного.
Естественно, нельзя забывать того, чем обязан Джованни Беллини своему отцу Якопо, старшему брату Джентиле, шурину Андреа Мантенье, и Дюрер в своем энтузиазме был достаточно прозорливым, чтобы отдать им должное. Но для молодого немца, совершившего столь длительное паломничество в Венецию, чтобы открыть там наиболее новые и наиболее ценные достижения современной живописи, Джованни Беллини превзошел всех венецианских художников, словно человек, взобравшийся на вершину колокольни на площади Святого Марка, парящий над розовыми крышами, зеленоватыми куполами, извивающимися, как змеи, каналами и спешащими прохожими на улицах. То, чего он достиг, не смог сделать ни один другой художник. Несомненно, многие находились в поиске, и если именно ему выпал шанс реализовать мечты целого поколения художников, то он обязан этим, без сомнения, как их усилиям, так и собственному таланту. Но реализация этих идей, возможно, коллективная, проявилась в его творчестве с такой силой, что каждый, впервые увидевший его работы, был покорен. Особенно если он прибыл из Германии, где идеалы и обычаи Средневековья все еще висели тяжелым грузом, и если он встретил за пределами родины мастеров, столь чуждых его собственному таланту.
Мантенья, с многочисленными работами которого Дюрер познакомился, прибыв в Италию, не оказал на молодого художника столь плодотворного влияния. Он обнаруживает у Мантеньи некоторые качества, от которых сам хотел бы освободиться или, по меньшей мере, их смягчить. С первых шагов в ателье отца Дюрер стремился к чистой живописи, где проблемы пластики, которые так поразительно точно решает Мантенья, отступают на второй план, а все внимание сосредоточено только на проблемах живописи. Кто еще, как не Джованни Беллини, осуществил настолько полно эту попытку изображения реальности, полного овладения натурой, в которой Дюрер ощущал столь острую потребность? Кто еще может поделиться с ним секретами творчества и привести его к цели, к которой он стремился?