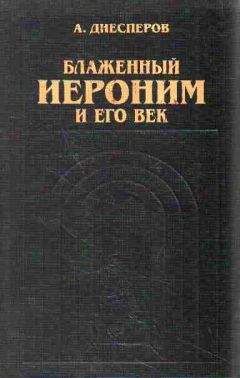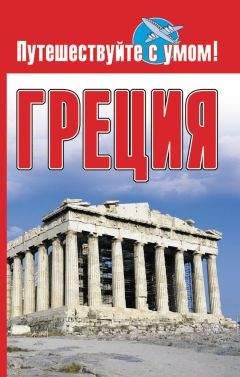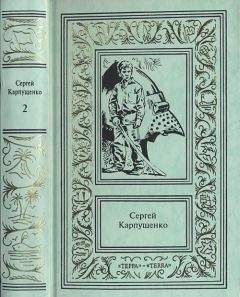Ради подвига жены забывали мужей, матери детей своих (как это сделала впоследствии Павла), и название, которое дает А. Тьерри тогдашним крайним ревнителям благочестия: mystiques destructeurs de la famille, может быть признано равно остроумным, как и справедливым.
В среду этих женщин вскоре после своего приезда в Рим и вступил Иероним. Повторяем, трудно понять, что его заставило сделать это. Ведь он сам писал в одном месте "Жития Илариона": "Сходились ; Илариону) епископы, пресвитеры, толпы монахов .. клириков, а также и христианских матрон (великое искушение!)".. Если так, зачем ему было подвергать себя подобному же искушению и собирать вокруг себя greges matronarum? Было ли это желание еще увеличить свой подвиг присутствием соблазна, или Иеро-аима влекло его неискоренимое чувство изящного, причем он был уверен, что нравственность этих женщин высока настолько, что он может не опасаться падения — мы не знаем. Но привязанность его была сильна, и, как увидим, связи его, по крайней мере с некоторыми из них, выдержали все испытания, какие могли представиться в жизни столь необыкновенной, как жизнь Иеронима.
Другой род тесной дружбы связывал Иеронима с тогдашним римским папой Дамазом. Конечно, не без влияния на чувства папы к Иерониму остались и те приводившиеся нами выше письма, с которыми последний обращался к нему из Халкиды по вероисповедным вопросам, но все-таки главнейшей причиной расположения и уважения Дамаза были редкие и многообразные дарования Иеронима. Среди людей, окружавших римского первосвященника, один он мог вполне самостоятельно работать в области вопросов экзегетики, требовавших в большинстве случаев непосредственного знакомства с еврейским текстом. Кроме того, основательная осведомленность Иеронима в святоотеческой литературе (равно латинской и греческой) еще увеличивала компетентность его суждений в области богословия. Блестящая литературность, хотя и не являвшаяся неизбежным условием для права выступать в качестве церковного писателя, была в свою очередь также весьма не лишней. Уже выбор Иеронима для присутствия на Римском соборе, ради чего он появился снова в Италии, говорил о его известности и широко признанном авторитете его суждений. Поэтому немудрено, что папа приблизил его к себе и часто пользовался его услугами, иногда, может быть, даже в качестве своего личного секретаря. Подобная роль Иеронима и дала позднее повод к легенде о его кардинальском сане; Дамаз часто обращался (устно и письменно) к Иерониму за разрешением всякого рода недоумений, связанных с различными местами Св. Писания, и мы имеем несколько ответов-писем Иеронима, наполненных иногда довольно обстоятельными толкованиями ("Письмо о серафимах", "О слове: осанна", "О двух сыновьях" и др.). В конце концов, Дамаз поручил Иерониму работу, которая положила несомненно наиболее прочное основание длительной славе Иеронима в католической церкви. Именно, папа просил его сверить с греческим и исправить Новый Завет, а затем пересмотреть и всю Библию. Это было первым шагом в деле нового перевода этой последней, в деле создания новой Вульгаты, которое получило свое завершение лишь гораздо позднее — уже в палестинском уединении Иеронима. Новый перевод был необходим по многим причинам Основные переводы (даже перевод 70-ти толковников) иногда были не совсем совершенны: со временем, сверх того, накопились ошибки, разночтения, и можно было бояться крупных церковных недоразумений в связи с этой неустойчивостью текста. "В латинских и греческих кодексах, кроме немногого, почти все находим извращенным", — писал Иероним о переводах библейских имен, но он же приводит любопытные образцы и гораздо более важных неточностей перевода и противоречий, попадавшихся в священных книгах его времени. "Κοινόμυϊα не пишется, как следовало бы согласно переводу латинян "песия муха", через букву о, а должно писаться согласно с еврейским пониманием через дифтонг οι, так, чтобы выходило Κοννόμυϊα, то есть "всякий род мух". Аквила перевел πάμμικτον, то есть "всякие мухи". Папе Дамазу, на некоторые его вопросы по поводу библейской хронологии, Иероним писал: в этом отношении есть много неразрешимого, "и о Мафусаиле писано, что он жил четырнадцать лет после потопа, а однако он не входил в ковчег с Ноем. Агарь также Измаила как бы грудного несет на плечах, тогда как оказывается, что ему около 18 лет или более, и было бы смешно столь большому юноше сидеть на шее у матери". Вообще, в своих переводах, в своем отношении к тексту Иероним показал себя необыкновенно свободным от всякой узости и ложного пиетета: смелый научный дух его суждений, при непоколебимой вере, представляет явление чуть ли не единственное в истории. Этот глубочайше благоговевший перед апостолом Павлом человек в то же время писал о нем: "Он не мог выражать достойным образом греческой речью величие божественных мыслей, поэтому имел переводчиком Тита". О евангельских ссылках на Ветхий Завет он замечает: "У Матфея после того, как были возвращены Иудой-предателем 30 серебреников и на них куплена земля горшечника, написано: тогда сбывается реченное пророком Иеремией говорящим: и взяли тридцать серебреников, цену цененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь (Мф 27,9). Этого совсем не находится у Иеремии, а встречается у Захарии в значительно измененном порядке и не теми словами выраженное". И несколько далее: "Также и Марк приводит слова Спасителя к фарисеям: Разве не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним; как он вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и съел хлебы предложения, которых нельзя было есть никому, кроме священников? (Мк 2, 25-26). Прочтем Самуила или — как вообще они называются — Книги Царств и здесь найдем имя не Авиафара, а Ахимелеха первосвященника". Относительно все той же библейской хронологии он говорит в другом месте: "Перечти все книги Ветхого и Нового Завета — и найдешь такое несоответствие дат между Иудой и Израилем, то есть между тем и другим царством, что длительно останавливаться на этом было бы делом скорее праздного человека, чем любознательного". Кое-какие замечания в стиле Иеронима относительно языка апостолов и ошибок в боговдохновенном Писании были позднее повторены Эразмом — и он чуть не поплатился за это, так как на очереди стоял вопрос об его привлечении на суд инквизиции. Иерониму тоже не прошли даром его смелость и независимость суждений: мы видим целую бурю протестов, поднявшуюся вокруг его переводов. Иероним защищался как мог, причем сознание своей правоты еще увеличивало, казалось, страстность и резкость его тона. "До меня неожиданно дошел слух, что некоторые людишки бранят меня непрестанно, зачем в Евангелиях, против мнения всего света и вопреки авторитету старины, я пытаюсь исправлять кое-что. Я мог бы презреть их по праву — не для осла звучит лира — но чтобы не упрекали нас в высокомерии, как обыкновенно, отвечу им, что не настолько я огрубел сердцем, не настолько во мне мужицкого невежества (которое они одно и считают за святость, уверяя, что они ученики рыбаков, как будто бы люди потому лишь могут быть праведны, что ничего не знают), чтобы считать что-либо из слов Господа или подлежащим исправлению, или не вдохновенным свыше. Я только хотел сверить ошибки латинских кодексов (очевидные ввиду разночтений) с греческими оригиналами, откуда — как и они признают — эти кодексы переведены. А если им не нравится влага чистейших ключей, пусть пьют из грязных луж, и то внимание, с которым исследуют приправы кушаний и вкус напитков, отлагают в сторону, когда приходится читать Писание. Пусть они будут простоваты только в одном этом отношении и считают деревенски-немудреными слова Христа, над которыми в течение стольких веков мучились умы стольких людей и полагали смысл каждого слова большим, чем они могли выразить. Пусть обвиняют в невежестве Апостола, который — как сказано (Деян 24, 26) — безумствовал от учености"".