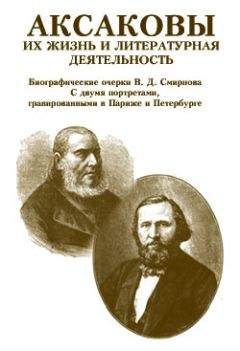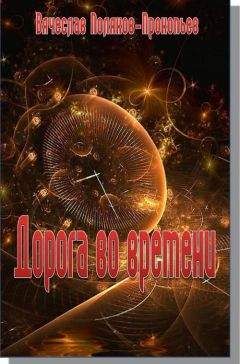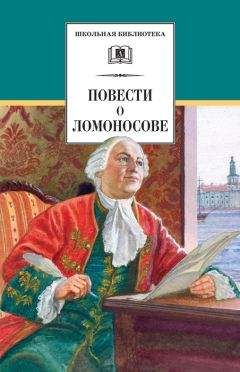В сущности говоря, все эти семь членов аксаковского символа веры являются и косвенным укором западноевропейской жизни. Нечего даже и говорить, чем больше всего дорожит Константин Аксаков. Он, очевидно, дорожит живою нравственною связью между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При них нет формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при них есть полная свобода для проявления внутренних позывов к добру, есть место для непрестанно действующей религиозности.
Что лучше? В сущности, противники Константина Аксакова могли только сказать ему: «вы нарисовали прекрасную картину своеобразного правового, экономического института. Мы не думаем оспаривать его достоинств. Признаем вместе с вами, что крестьянский мир действительно держится на религиозно-нравственных устоях, что справедливость жизни осуществляется в его обстановке лучше, чем где-нибудь в другом месте. Только покажите нам его, сделайте для нас очевидным, что он действительно так хорош, как вы говорите, и мы – ваши».
Как бы предчувствуя эту оговорку, Константин Аксаков в той же пьесе пошел ей навстречу, и в этом-то случае особенно ясно и резко проявилась «субъективная» сторона его мышления.
Есть в этой пьесе кое-что, что не сразу бросается в глаза и требует кое-каких разъяснений, – разъяснений, тем более необходимых, что дело идет об основной черте мировоззрения Константина Аксакова. Крестьянский быт он характеризует исключительно в мажорном, как выражается С. Венгеров, тоне. Краски получаются суздальские – все больше красное с золотом, – но в высшей степени характерные как для самого Аксакова, так и для всей славянофильской школы вообще. И является этот мажорный тон у Константина Аксакова потому, что происхождение его народолюбия не то, что у народолюбцев противоположного западнического лагеря.
Если мы в самом деле присмотримся к истории западнического народолюбия, нам нетрудно будет убедиться, что источник его кроется в жалости нравственно чутких представителей русского культурного класса к бедственному положению мужика и в чувстве раскаяния, которое они испытывали при мысли о своей причастности греху векового угнетения крепостного раба.
«Когда в начале сороковых годов шедшие к нам из Франции „филантропические“, по терминологии того времени, идеи привели к необыкновенно яркому пробуждению общественных чувств и когда те же самые «люди сороковых годов», которые всего несколько лет тому назад, в тридцатых годах, только и думали, что об «абсолютах», о «святыне искусства», о «вечной красоте», и тому подобных метафизических тонкостях, теперь до мозга костей прониклись «политикой», вопрос о народе не мог не стать одним из центральных вопросов времени. Поколение, вся духовная жизнь которого сосредоточилась на размышлениях о том, справедлив или несправедлив существующий общественный строй, прежде всего стало болеть душою за «униженных и оскорбленных» вообще и за русского крепостного мужика в частности. Глашатай этого поколения – «неистовый Виссарион» с тою же восторженною энергией, с которою он некогда требовал от писателей служения чистому искусству, начал требовать от них определенной общественной тенденции, подразумевая под нею, по преимуществу, все ту же защиту «униженных и оскорбленных» вообще и мужика в частности. И чутко внимавшие пламенному искателю истины молодые таланты того времени поддались неотразимому влиянию горячей убежденности Белинского и, точно сговорившись, почти в один и тот же год предстали пред изумленною публикой с рядом превосходных произведений, в основе которых лежали самые широкие симпатии к загнанному простолюдину. Явился Григорович с «Деревней» и «Антоном Горемыкой», в которых впервые был показан человек в крепостном мужике, явился Тургенев с «Записками охотника», в которых то же желание очеловечить мужика было проведено с еще большею теплотою, явились первые стихотворения на народные темы Некрасова, бросившего под новым влиянием прежние «мечты и звуки» и посвятившего отныне свою музу народным страданиям и психологии народной души».
Для западников, словом, мужик являлся несправедливо угнетенным, несправедливо преследуемым человеком. Его не столько любили, сколько жалели, иногда даже мучительно жалели, как загнанного раба.
Из диаметрально противоположного источника вытекло народолюбие Аксакова. Мужик был дорог ему, главным образом как хранитель истинно русских преданий. Не потому он любил мужика, что мужик – наш меньшой брат, имеющий в силу своего человеческого достоинства равное с нами право на участие в жизненном пиршестве, а потому, что он видел в мужике «живой обломок дорогого ему древнерусского быта». И вот почему, совершенно закрывая глаза на реальную действительность и на те печальные условия, среди которых протекала жизнь крепостного мужика, К. Аксаков, нисколько не кривя душой, а просто опираясь на впечатления детства, изображал эту жизнь в самом розовом свете – больше даже, как жизнь поистине богатырскую, полную красоты, мощи, поэзии. Так, например, в «Князе Луповицком» все крестьяне очень зажиточны и в порыве великодушия дают 800 рублей, из которых сто приходится на долю старосты, представляющего из себя опять-таки не какого-нибудь вора-бурмистра, а высокочестного человека, нажившегося исключительно «добродетелью», т. е. из источника доходов, совершенно в наши дни дискредитированного. Дальше, когда еще неузнанный своими крестьянами Луповицкий стороною спрашивает одну из попавшихся баб, как живется мужикам его деревни, она прямо говорит ему: «нам грех Бога гневить, нам хорошо».
Заподозрить К. Аксакова в неискренности и в преднамеренном разукрашивании – совершенно невозможно. Мужицкой жизни он, в сущности, не знал и не видел, по характеру же своему он был склонен рассматривать все через розовые очки. «Все дело тут в том, что, упрекая других в кабинетности и незнании народа, К. Аксаков, как улитка проживший всю свою жизнь в раковине отцовского дома, сам более других был в этом повинен и считал „знанием“ народа изучение былин Владимирова цикла и летописей». Поневоле ему все мерещились Ильи Муромцы да Микулы Селяниновичи. Живые же люди, с которыми ему пришлось водить дружбу после разрыва с кружком Станкевича и Белинского, – все эти Хомяковы, Аксаковы, Киреевские, наконец, собственный отец его – были люди очень богатые и добрые, не имевшие решительно никакой надобности и никакого расположения сколько-нибудь дурно обращаться со своими крестьянами. «Если мы вспомним, – говорит С. А. Веслеров, – с каким добродушием относился Сергей Тимофеевич к крепостному праву, то нам станет вполне понятным, что и в сыне его, раз он жизни не знал, только теоретические импульсы могли создать иное, более озлобленное отношение. Но именно теоретические-то импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Те импульсы, которые вдохновляли бывших друзей Константина Сергеевича на возможно резкий протест против темных сторон крепостного права, для него были несимпатичны уже в источнике своем, потому что помимо того, что они шли с Запада, они говорили о вражде и фрондерстве, столь нелюбимых им. Общее же его миросозерцание и склад восточно-русской натуры гнули в сторону усматривания положительных сторон. Конечно, это не умаляло степени нелюбви Константина Сергеевича к крепостному праву, в ненависти к коему он едва ли уступал кому бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя, получалось очень странное впечатление, получался тот совершенно неуместный мажорный тон, то идиллическое изображение крепостного быта, по поводу коего каждый крепостник мог сказать: „зачем отменять крепостное право, когда при нем так хорошо живется народу?“