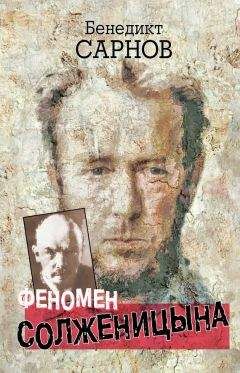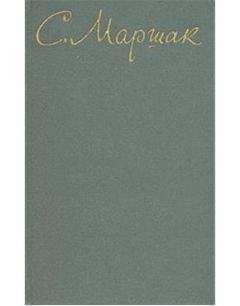– Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским? Не странный ли способ выслуживаться – через границу...
– Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую безупречную службёнку, через двадцать лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю? А на Западе сразу – мировой скандал и миллион в карман...
– М-да-а... Но всё-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от трёхсот до двух тысяч четырёхсот герц... А как ты думаешь, он – правду сообщил?
– То есть относительно радиомагазина?
– Да.
– В какой-то степени очевидно – да.
– «В этом есть рациональное зерно»? – передразнил Нержин. – Ай-ай-ай, Лёвка-Лёвка! Значит, ты становишься на сторону воров?
– Не воров, а – разведчиков!..
– Какая разница! Такие же стиляги и карьеристы, только нью-йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока три миллиона в карман!..
– Дурень! Ты безнадёжно отравлен испареньями тюремной параши! Тюрьма тебе исказила все перспективы мира! Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему? – Лицо Рубина выражало страдание.
(Там же. Стр. 280–282)
И тут с новой силой вспыхивает между друзьями их, видимо, уже давний, вечный спор, с каждым новым витком принимая все более ожесточённые формы:
...
– Никуда ты, никуда не денешься! – грозно толковал Рубин. – Придётся тебе дать отчёт: по какую сторону баррикады ты стоишь?!
– Вот ещё, мать твою, фанатиков перегрёб, – всю землю нам баррикадами перегородили! – сердился и Нержин. – Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья – так нет же, за ноги дёргают: кто не с нами, тот против нас! Оставьте мне простору! Оставьте простору! – отталкивался Нержин.
– Мы тебе оставим – так те не оставят, с той стороны!
– Вы оста-авите! Кому вы оставляли! На штыках да на танках всю дорогу...
– Дитя моё, – смягчился Рубин, – в исторической перспективе...
– Да на хрена мне перспектива! Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что ты скажешь! – бюрократическое извращение, временный период, переходный строй – но он мне жить не даёт, ваш переходный строй, он душу мою топчет, ваш переходный строй, – и я его защищать не буду, я не полоумный!
(Там же. Стр. 283)
И после ещё нескольких таких же витков они вновь возвращаются к тому, с чего начали. Но если в начале у Рубина была надежда, что в конце концов, под тем или под другим соусом, ему всё-таки удастся уговорить Нержина вместе работать над созданием новой науки, то теперь от этих его надежд не остается уже и следа:
...
– Собака! Стерьва... Голоса классифицировали вместе... Что ж мне теперь – одному работать?
– Найдёшь кого-нибудь.
– Ко-го?? – нахохлился Рубин, и было странно видеть детски-обиженное выражение на его мужественном пиратском лице.
– Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной жёлто-коричневой жидкостью обливать, а я им – добывай атомную бомбу? Нет!
– Да не им – н а м, дура!
– Кому – нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне не нужна. Я... к мировому господству не стремлюсь.
– Но шутки в сторону! – спохватился опять Рубин. – Значит, пусть этот прыщ отдаёт бомбу Западу?..
– Ты спутал, Лёвочка, – нежно коснулся отворота его шинели Глеб. – Бомба – на Западе, её там изобрели, а вы воруете.
– Её там и кинули! – блеснул коричнево Рубин. – А ты согласен мириться? Ты потворствуешь этому прыщу?.. Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?
– А по-твоему воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.
– Как изолировать?! Идеалистический бред!
– Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали – надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна!
(Там же. Стр. 284)
Да, не похож, совсем не похож этот Нержин на того, каким предстал перед нами его прототип в копелевских воспоминаниях о Марфинской шарашке. Но и солженицынский Рубин, прообразом которого был автор этих воспоминаний, тоже довольно далеко отклонился от своего прототипа. «Угол отклонения» тут не так велик, как в оппозиции «Нержин – Солженицын». Но в этом случае интерес представляет не так величина этого отклонения, как его вектор.
* * *
Нержин, как уже было сказано, – ALTER EGO автора. Но не того, каким он был в годы, проведённые им на «шарашке», а более позднего, уже давно расставшегося со своей былой верой в мировую революцию. Говоря попросту, в романе он несравненно умнее себя прежнего. Что же касается Рубина, тут дело обстоит ровно наоборот. Рубин в романе не то, чтобы каким был, таким остался, но даже сильно оглуплен в сравнении с тем, каким был его прототип в те – теперь уже давние – годы.
Вспомним, какой была первая его реакция на приобщение к новому, сверхсекретному спецзаданию:
...
К тому времени я уже законспектировал дюжину книг и кучу статей по физиологии речи, провел множество экспериментов, пытаясь возможно точнее определить конкретные признаки одного голоса. Куприянов, Солженицын и я произносили одни и те же слова с разными интонациями, нарочито изменяя голос, либо подделываясь под чужеземное произношение, либо имитируя акцент (грузинский, еврейский, немецкий, украинский...). Потом я сравнивал звуковиды... Сергей Куприянов сделал приставку к АС-3, которая позволяла «укрупненно» выделять и анализировать отдельные звуки, отдельные полосы частоты...
Иногда казалось, что уже нашел. Вот именно такой рисунок гармоники в звуковиде такой-то гласной, именно такое чередование подъемов-опусканий более темных (то есть более энергичных) и более светлых участков присуще данному голосу. Потом оказывалось, что тот же звук этот голос произносил совсем по-другому либо, напротив, обнаруживались очень сходные черты в звуковиде другого голоса.
И тогда надежды, нетерпеливое ожидание, радость сменялись разочарованием, злой досадой, недоверием к себе.
Теперь все эти искания, исследования, предположения нужно было целеустремленно сосредоточить, подчинив одной задаче – найти шпиона.
(Л. Копелев. Утоли моя печали)
Это реакция учёного, перед которым поставлена новая – сугубо научная – задача. Только одно чувство владеет им сейчас: как удастся (ещё удастся ли?) ему её решить. И только ему одному подчинены сейчас все его эмоции: надежды, радость, нетерпеливое ожидание, рождённые предвкушением научного открытия, которое ему предстоит совершить, и – злая досада, недоверие к себе, вызванные страхом, что ничего у него не получится, что совершить это – такое уже близкое – открытие ему не удастся.