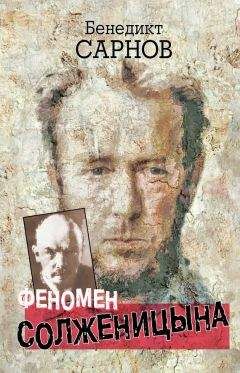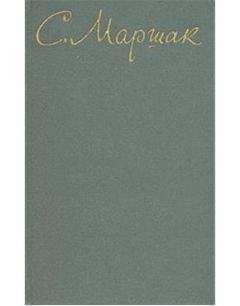Моральная, этическая сторона этого весьма специфического сепцзадания в потоке владеющих им эмоций как бы вынесена за скобки.
Собственно, никакой моральной проблемы для него тут не существует, эта сторона дела никаких сомнений, а тем более колебаний у него не вызывает. О ней сказано вскользь, мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, двумя короткими фразами:
...
...Все эти искания, исследования, предположения нужно было целеустремленно сосредоточить, подчинив одной задаче – найти шпиона...
Он был причастен к заповедным государственным тайнам и выдавал их нашим злейшим врагам. Его необходимо изобличить, и я должен участвовать в этом... (Там же)
Иное дело – в романе.
Тут эта моральная, этическая проблема выдвинута на первый план. Именно она определяет весь строй испытываемых Рубиным чувств, весь поток владеющих им эмоций.
Радость, которую испытывает Рубин, приобщённый к сверхсекретному спецзаданию высочайшей государственной важности, не имеет ничего общего с той радостью, которую испытывал его прототип.
У того это была радость предвкушаемого научного открытия («Зато это хорошая физика!» – как сказал Ферми своим коллегам, вместе с которыми работал над созданием атомной бомбы).
Радость, захлестнувшая приобщённого к тому же спецзаданию Рубина – совсем другого рода:
...
Рубин впился в пёструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.
После слов: «А кто такой ви? Назовите ваш фамилия» – Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах, здесь присутствующих, и что на нём самом давно не горят майорские звёзды. Он поджёг погасшую папиросу и коротко приказал:
– Так. Ещё раз.
Смолосидов включил обратный перемот.
Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса.
Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесчещенный – вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведётся посильно поработать на старуху Историю. Он снова – в строю! Он снова – на защите Мировой Революции!
(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 204–205)
Это – чистейшей воды анахронизм!
В 1949 году о Мировой Революции давно уже никто не вспоминал. И Рубин выглядит тут этаким новоявленным Рип Ван Винклем, заснувшим в одной стране – с наркомами, реввоенсоветами, командармами и «Нашим ответом Чемберлену», и проснувшимся – спустя двадцать лет – совсем в другой, с министрами, золотопогонными офицерами, генералами и увенчивающим эту новую государственную пирамиду генералиссимусом.
Для Рубина, как и для его прототипа, никакой моральной проблемы тут не существует. Мотивировка его готовности принять участие в разоблачении вражеского лазутчика тут другая. Но – как там, так и тут, – решение принимается сразу, без колебаний и даже с восторгом.
Но это – в «атомном» варианте романа.
В «лекарственном» так просто не получается. Ситуация-то ведь здесь совсем другая. Одно дело – участвовать в разоблачении предателя, выдавшего врагам величайшего значения государственную тайну, и совсем другое – помочь ненавистным органам опознать человека, совершившего, хоть и наивный, может быть, опрометчивый, но безусловно благородный поступок:
...
Смолосидов включил на прослушивание.
Рубин впился в пеструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.
В тишине кабинета прозвучал с легкими примесями шорохов диалог взволнованного торопящегося незнакомца и нерасторопной старомодной дамы.
И лицо Рубина с каждой фразой теряло своё приготовленное жесткое выражение. Оно даже стало растерянным. Боже мой, это было совсем не то, это дикость была какая-то...
А лента кончилась.
От Рубина ждали, но он совсем не знал ещё, что сказать.
Надо было хоть немного времени и чтобы не смотрели со всех сторон на него. Он поджёг погасшую папиросу. Попросил:
– Так. Ещё раз.
Смолосидов включил обратный перемот.
Рубин с надеждой смотрел на его тёмные руки с голубыми пальцами. Ведь мог же бы он сейчас ошибиться! – включить не головку прослушивания, а головку записи! И все бы стёрлось бесследно! И Рубину нечего было бы решать.
Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы.
Молчали.
Нет, Смолосидов не ошибся! Он включил именно ту головку, которую надо.
И опять с нервностью и почти отчаянием зазвучал голос молодого человека, и опять мычала или брюзжала недовольная дама. И надо было вообразить и представить себе преступника...
Он опустил лицо в пальцы руки. Самая главная дикость тут была в том, что не мог разумный человек с незамутнёнными мозгами посчитать любое медицинское открытие – государственной тайной. Потому что не медицина та медицина, которая спрашивает у больного национальность. И этот человек, решившийся звонить в осаждённую квартиру (а может, он и не понимал всей опасности), этот смельчак был симпатичен Рубину – Рубину тоже как простому человеку.
(А. Солженицын. В круге первом. Париж. 1969. Стр. 231–232)
Ситуация как будто безвыходная.
Но выход находится сразу.
Мгновенно влючается тот же механизм самообмана, самоуговаривания, самонакачки, что и в «атомном» варианте:
...
Но объективно – объективно этот человек, пожелавший сделать как будто добро, на самом деле выступал против положительных сил истории. Раз приоритет науки был признан важным и нужным для укрепления нашего государства – значит, тот, кто подрывает его, становится объективно на пути прогресса. И должен быть сметён...
Да и не так все просто в разговоре. Это испуганное повторение слова «иностранцы». Передать «кое-что». Это может быть и не препарат. А «препарат» может быть и шифровкой. История знает примеры. Как вызывали балтийцев на вооружённое восстание?
«Высылай устав!» А значило – высылай корабли и десант...
Лента кончилась. Рубин вынул лицо из ладони, посмотрел на угрюмого Смолосидова, на бессмысленного чванливого Бульбанюка. Они были ему отвратительны, смотреть на них не хотелось. Но здесь, на этом маленьком перекресточке истории, именно они объективно представляли собою её положительные силы.
И надо было стать выше своих чувств!
Именно такие же мясники, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же мясники, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.