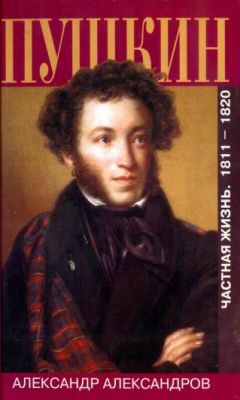— Она ведь разъехалась с мужем?
— Он был недалек, некрасив, хотя и несметно богат. Она дочь действительного тайного советника Ивана Михайловича Измайлова от брака с княжной Александрой Борисовной Юсуповой. Рано осиротев, воспитывалась в доме дяди Михаила Измайлова, сенатора и московского главнокомандующего. Ее выдал замуж за нелюбимого Павел, раз — захотел и выдал. В день смерти Павла она покинула мужа, тоже — раз и навсегда…
— Так был ли роман с Пушкиным? — с нетерпением спросил Иван Петрович.
— Вы, как всегда, спешите.
Тут принесли бутерброды с паюсной икрой и графин с водкой. Лакей налил рюмки.
— Перекусим? — предложил князь. — А потом продолжим.
Выпили, крякнули по русскому обычаю (хотя водка была хорошая, пилась легко), закусили икоркой.
— Я не был в то время в Петербурге, а потом на мои нескромные вопросы Пушкин всегда отмалчивался. Думаю, что Пушкин в медовые месяцы своего вступления в свет был маленько приворожен ею. Это все видели: Тургенев, Карамзин писали мне об этом в Варшаву. Могу еще добавить, что такая личность, как княгиня не могла проходить бесследно и не пробуждать нежных сочувствий в том или ином сердце. Она на своем веку внушила несколько глубоких и продолжительных привязанностей, почти поклонений. До какой степени сердце ее, в чистоте своей, отвечало на эти жертвоприношения, и отвечало ли оно, или только благосклонно слушало, все это остается тайной… Но повторим еще раз, доброе имя ее, и при той довольно строгой общественной цензуре, оставалось безупречно-неприкосновенным.
Князь подождал, пока Иван Петрович закончит стенографировать его рассказ, и предложил:
— Повторим еще? — Князь указал на запотевший графинчик.
— Отчего же нет? — радостно согласился Иван Петрович. По русской привычке, которую отчего-то особенно приятно было осознавать на чужбине, первая прошла хоть и не колом, зато вторая как полагается — соколом!
в которой Батюшков сидит у Жуковского и смотрит, как тот примеряет новый мундир. — Павловский Пудромантель — учитель русского языка у великой княгини Александры Федоровны. — Николай Николаевич Новосильцов. — Батюшков грустит. —
Ахилл и Сверчок. —
Клятва Сверчка на куриной гузке. — К Батюшкову ходят крысы, он снова грустит и хочет в Италию. — «Это не умирающий Тасс, а умирающий дядюшка Василий Львович». — Конец августа — начало сентября 1817 годаБатюшков сидел у Жуковского. Дожидался, когда тот выйдет в гостиную в своем новом облачении. Дело было в том, что совсем недавно Жуковский был назначен, не без протекции Карамзина, учителем русского языка к принцессе Шарлотте, теперешней великой княгине Александре Федоровне. Императрица Мария Федоровна сначала не соглашалась, говоря, что Жуковский слишком молод для учителя, но Карамзин сказал, что ему уже 34 года, и не пожалел слов, чтобы описать все благородство его характера. Жуковскому сшили новый, полагающийся учителю мундир. В воскресенье он уже представлялся ученице своей и обедал с ней в Павловске у императрицы Марии Федоровны, но следующая встреча должна была быть непременно в мундире. К тому же при дворе императрицы Марии Федоровны до сих пор, как при покойном ее супруге Павле Петровиче, полагалось пудриться, чего давно уже не делали при императоре Александре Павловиче, и Жуковский пригласил куафёра с парижской выучкой, но с совершенно русской физиономией.
Батюшков только третьего дня вернулся из своей вологодской вотчины. Осенняя погода, наводившая на него особенную тоску, выгнала его в город; между Москвой и Петербургом он выбрал последний, тем более что у него выходила книга у Гнедича, Гнедич же обещал помочь с продажей имения. Жить Батюшкову было не на что, одна надежда на это имение. Он рассчитывал продать его и поступить на службу, мечтой его было отправиться в Италию хоть кем-нибудь при нашей миссии. Друзья по «Арзамасу» хлопотали об этом.
Вчера состоялось заседание «Арзамаса», на котором он наконец был принят в его члены под именем Ахилла. Речь при его вступлении произносил Блудов; происходило все в доме у Александра Ивановича Тургенева. Впрочем, он давно уже, как и остальные, считал себя арзамасцем, просто обстоятельства складывались так, что удалось принять его только теперь. Странно, подумал он тогда на заседании, что нет Пушкина. Говорят, что он вообще был едва ли не один раз. Его более увлекает светская жизнь и шумные холостяцкие пирушки с блядями и шампанским у Всеволожского, а не мужские собрания, пусть и не чопорные. Не было и Михаила Федоровича Орлова (Рейна), хотя два предыдущие собрания, когда Батюшков еще не приехал из деревни, проходили у него. Он вообще хотел придать шутливому литературному обществу более серьезный политический характер и даже выступил с программой, в которой говорилось в первую очередь об уничтожении рабства. Все присутствующие были согласны с необходимостью уничтожения рабства в России, но средства предлагаемые не всех устраивали. Жуковский же вообще был против придания обществу политического характера и потребовал больше не отклоняться от литературы во внутреннюю политику.
Жуковский появился из соседней комнаты в мундире придворного учителя, при шпаге и с напудренной белой головой. Он даже не снял пудрамантеля, накидки, в которой пудрились.
— Ну как я тебе? — снимая теперь пудрамантель и осторожно, чтобы не обтрясти пудру, отдавая его куафёру, поинтересовался у Батюшкова Жуковский. — Князь Вяземский в последнем письме Александру Ивановичу так и назвал меня Павловский Пудрамантель. Смешно, правда? Есть во мне что-то от этого важного слова — пудрамантель! Что-то высокое, чопорное и белое…
— Высокое, чопорное и белое — это цапля! — сказал Батюшков и рассмеялся. — Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла! — расхохотался и Жуковский.
Жуковский важно, как цапля, стал прохаживаться перед Батюшковым, выпячивая утлую грудь и выкидывая вперед длинные ноги, потом не выдержал, упал головой на стол и закашлялся от приступа смеха. Смеялись они до надсаду.
— Я радуюсь за тебя истинно, что все так хорошо сложилось, — сказал наконец Батюшков, когда смех прошел.
— Надеюсь, мы и тебя пристроим, и пройдет твоя хандра.
Глаза Батюшкова снова стали грустными.
— Как устроили Вяземского в Варшаву к Новосильцову, — добавил Жуковский.