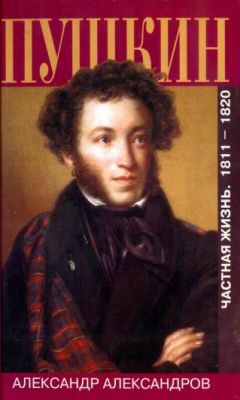— Хочу в Италию, — признался Батюшков. — Если не удастся с Италией, полечу в Тавриду лечить грудь мою и рассеять тоску и болезнь на берегах Салгира, на высотах Чатырдага и на долинах Поморья. А там сяду на корабль к каким-нибудь грекам и убегу в Италию… На корабле, правда, крысы… — вдруг неожиданно сменил он тему. — Крысы. Они в деревне меня замучили, глазки умненькие, морда гадкая… Тут, в Петербурге, тоже приходят крысы. К тебе приходят? — серьезно спросил он, глядя Александру в глаза.
От его взгляда стало не по себе.
— Нет, — сказал Александр. — Ко мне не приходят.
— Еще придут, — печально предсказал Батюшков. — Одна из них особенно умная, умеет бегать вокруг люстры. По потолку… — уточнил он.
Пушкин, чтобы отвлечь его, предложил ему посмотреть тетрадку стихов одного молодого своего приятеля. Батюшков полистал их в дороге, помолчал, потом вернул равнодушно, сказав, что не находит в них ничего особенного.
— Да посмотри, какие гладкие стихи! — воскликнул Пушкин.
— Да кто же теперь не пишет гладких стихов, — вяло отозвался Батюшков и стал смотреть в окно кареты.
Этот ответ навсегда врезался в память Пушкину. До самого Петербурга он думал все над этой фразой. И о крысах, мучивших Батюшкова. И еще он подумал, что знаменитая элегия Батюшкова «Умирающий Тасс», которая до этого издания уже более года ходила в списках, конечно, ниже своей славы. Торквадо Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия, ничего не видно. Это умирающий дядюшка Василий Львович, а не Торквадо. Но ничего из этого он, разумеется, Батюшкову не сказал. Он не любил до конца откровенничать.
в которой Пушкин у Карамзиных знакомится с княгиней Евдокией Голицыной и получает приглашение бывать у нее. —
История Ивана Борисовича Пестеля, рассказанная Карамзиным. — Ростопчин. — Княгиня Голицына в сарафане и кокошнике. — Кто все-таки сжег Москву? — Война 1812 года. — Борзописцы Тургенев, Воейков и Греч выдумывают подвиги русского народа, не выходя из петербургских квартир. — Пушкин протестует против быта, но интересует его княгиня Евдокия. — Дом княгини. — Роман Пушкина с приемщицей билетов в зверинце. — Оборотная сторона всего приятного, что имеешь с женщинами. — Сентябрь — октябрь 1817
годаЕще в середине сентября переехал в Петербург из Царского Села на зиму Карамзин с семьей, но только теперь Саша Пушкин, сам вернувшись из Царского, где он вспомнил о нем, на следующий день удосужился нанести Карамзину визит на набережную Фонтанки; историк проживал в верхнем этаже дома Муравьевой, через несколько домов от дома Министерства народного просвещения, где он постоянно бывал у братьев Тургеневых. Дорога в дом Муравьевой тоже была привычная: Екатерина Федоровна была тетушкой Константина Батюшкова, у которой он всегда останавливался в свои приезды в Петербург, и Пушкин бывал у него неоднократно с визитами.
Когда слуга впустил Пушкина в гостиную без доклада, он увидел там собравшееся общество. В первой комнате за круглым чайным столиком, на котором стоял самовар, помещалось целое семейство Карамзина. Сам он сидел в некотором отдалении, в полукруге посетителей. Батюшков, кстати, уже был в гостиной, но стоял отдельно ото всех, у дверей, и молча подал Саше руку. Среди гостей, окруживших хозяина, Пушкин увидел и Александра Ивановича Тургенева, который радушно с ним раскланялся издалека. Карамзин что-то рассказывал внимательно слушавшим его гостям. Среди них, неожиданно для Пушкина, оказалась и княгиня Ночная, встречи и знакомства с которой он искал последнее время.
Карамзин прервал на время свой рассказ, встретил Пушкина на середине комнаты, громко произнес его фамилию, представляя другим собеседникам и попросив садиться. В его приемах, обращении и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то необыкновенным добродушием и простотой патриархальных времен. Общество в его гостиной было самое разное, но добродушная его нежность разливалась равно на всех. Извинившись перед собеседниками, он продолжил, пояснив Пушкину:
— Я рассказываю про Ивана Борисовича Пестеля, нынешнего сенатора, а при Павле Петровиче петербургском почт-директоре и президенте Главного почтового ведомства, который пользовался особым благоволением императора. Чем, разумеется, был недоволен Ростопчин, бывший при императоре в роде первого министра. Вот какую западню устроил Ростопчин против Пестеля. Он написал письмо от неизвестного, который уведомляет своего приятеля за границею о заговоре против императора и входит в разные подробности по этому предмету. А в конце письма добавляет: «Не удивляйтесь, что пишу Вам по почте; наш почт-директор Пестель с нами». Ростопчин приказал отдать письмо на почту, но так, здесь уж я не знаю, каким способом, чтобы оно возбудило внимание почтового начальства и подверглось перлюстрации. Граф Ростопчин хорошо знал характер Павла, но хорошо знал его и Пестель. Он не решился показать письмо императору, который по мнительности и вспыльчивости своей не дал бы времени порядочно исследовать достоверность этого письма, а тут же бы уволил его или сослал. Граф Ростопчин также все это сообразил и ждал, потирая руки. Несколько дней спустя, видя, что Пестель утаивает письмо, доложил Ростопчин о ходе всего дела, объясняя, разумеется, что единственным побуждением его было испытать верность Пестеля и что во всяком случае повергает он повинную голову свою пред его величеством. Государь поблагодарил его за прозорливое усердие к нему. Участь Пестеля была решена…
— Ловко, — сказал кто-то из гостей. — Проиграть в этом случае было невозможно.
— Разумеется, — согласился Карамзин, — но этим не довольствуется торжество Ростопчина. Он человек ума насмешливого, и ему захотелось пошутить. До сообщения Пестелю именного повеления он приглашает его к себе на обед. Тот, обольщенный успехами своими, является к обеду впопыхах и с некоторой самоуверенностью. Хозяин расточается пред ним в особенных вежливостях и ласках. Пестель при этом думает, что Ростопчин начинает опасаться его и хочет задобрить. Он предается мечтаниям и проговаривается о своих видах на будущее. Однако, возвратившись домой, он находит официальную бумагу, вовсе не согласную с розовыми мечтаниями честолюбия своего.