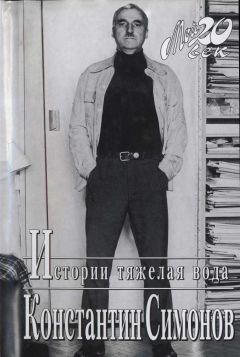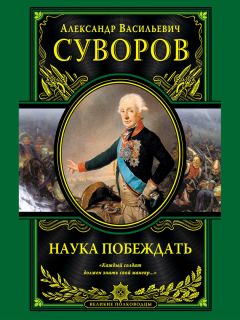— Останови, — сказал мне Василий Петрович. — Пока не печатайте ни одной полосы.
— Пока что? — спросил я.
— Надо поговорить с тобой.
— Хорошо, остановлю, — сказал я. — Сейчас приеду к тебе.
— Не надо ко мне приезжать, я сам к тебе сейчас приеду. А печать останови.
Я остановил печатание полос, сказав, что, возможно, поступит официальный, обычно необязательный, но в данном случае, может быть, и обязательный для нас материал, надо будет еще разобраться, будем мы его печатать или нет. Поэтому пусть «свежие головы» дочитывают остальные полосы, а потом уже будем печатать все подряд. В более подробные объяснения я не вдавался.
Через каких-нибудь пятнадцать минут Московский уже вошел ко мне в кабинет и попросил сделать так, чтобы, пока он у меня будет, никто не заходил. Я предупредил удивленную секретаршу свою Татьяну Александровну, чтоб она никого без исключений не пускала.
— Никого? — переспросила она, потому что это не было принято у нас в газете.
— Никого.
Я зашел в кабинет, закрыл дверь, сел в кресло напротив Московского и стал ждать, что же чрезвычайное он мне имеет сообщить. Несомненно, было что-то чрезвычайное. Самым простым, еще до появления Московского пришедшим мне в голову объяснением была мысль о том, что вдруг, как уже один раз до этого было, меня решили снять с газеты и в выходящем номере уже не должно стоять моей подписи. Но зачем держать все полосы? Можно было задержать только последнюю. Нет, очевидно, что-то действительно очень важное, куда более важное, чем мое освобождение от редакторства, от которого я не заплакал бы.
— Слушай меня внимательно, — сказал Московский и перешел на официальный тон. — Мне поручено ЦК сообщить тебе как редактору «Литературной газеты» для твоего личного, только личного, сведения, что товарищ Берия сегодня выведен из состава Президиума ЦК, выведен из состава ЦК, исключен из партии, освобожден от должности заместителя Председателя Совета Министров и министра внутренних дел и за свою преступную деятельность арестован, — официальным голосом, но одним дыхом выпалил мне все это Московский, даже не заметив, что по въевшейся привычке в начале этого сообщения забыл убрать перед фамилией Берии механически произнесенное слово «товарищ».
— Ясно, — сказал я. — А что случилось-то? Что произошло?
— Все, что случилось, узнаешь завтра в десять утра на пленуме ЦК, а пока с учетом того, что я тебе сообщил, лично перечитай все полосы, чтобы там ничего не было о Берии.
— Там ничего нет о Берии, откуда он там, — сказал я, вспоминая все четыре полосы сегодняшней газеты. — Специальных материалов у нас не идет никаких, а так откуда же он?
— Не знаю откуда, — сказал Московский. — Я тебя официально предупредил, больше у меня времени нет, надо ехать дальше, а ты перечитай все полосы лично. И никому ничего не сообщай. Ясно?
— Ясно.
Так никому ничего не сообщив, я как дурак стоял еще два часа за своей конторкой, перечитывая все четыре полосы, на которых фамилия Берии могла оказаться разве что в какой-нибудь заметке о сельском хозяйстве, где фигурировал бы колхоз или совхоз его имени. Но и такого тоже не обнаружилось, и я к середине ночи подписал все полосы.
Пробую сейчас вспомнить, какое тогда, в тот вечер и ночь, на меня произвело впечатление это событие, полный переворот в судьбе Берии. Главным было чувство облегчения, что уже не произойдет чего-то, что могло бы произойти, оставайся все по-прежнему. То, что Берия был близок к Сталину, то, что так или иначе, во все времена пребывания в Москве, занимаясь отнюдь не только Министерством внутренних дел, или Министерством государственной безопасности, или промышленными, строительными министерствами, входя в Государственный Комитет Обороны во время войны, он всегда при этом имел некую дополнительную власть как человек или руководящий, или наблюдающий за органами разведки и контрразведки, — все это было известно. И очевидно, часть авторитета, созданного им себе при своевременном срочном выполнении тех или иных государственных заданий в области промышленности, была замешена на том страхе и трепете, которые людям вселяло такое его совместительство, — это принадлежало к числу обстоятельств, о которых нетрудно было догадываться, и мы догадывались о них.
При том положении, которое Берия занимал при Сталине, то, что он окажется среди первых лиц государства после смерти Сталина, казалось само собой разумеющимся. Но то, что он сразу же сделался вторым лицом, и очень активным, то, что никто другой, а именно он предлагал кандидатуру Маленкова, — от этого возникало ощущение некой опасности. Это ощущение испытывали многие. Время, особенно в первые месяцы после смерти Сталина, продолжало оставаться жестким, и первое осязаемое изменение в нем появилось только после разоблачения сфальсифицированного дела «врачей-убийц» и освобождения этих людей. Время не предрасполагало к слишком откровенным разговорам на такие темы, но помню, что с оговорками, с недоговоренностями у разных людей все-таки проявлялась тревога, связанная с тем положением, которое после смерти Сталина занял Берия. Были среди разнообразно выраженных тревог этих и такие оттенки: а не попробует ли Берия занять по наследству место Сталина в полном смысле этого слова?
Что до меня, то, проводя между сорок восьмым и пятьдесят третьим годами все свои так называемые творческие двух-трехмесячные отпуска за работой сначала в Сухуми, а потом под Сухуми, в поселке Гульрипши, и познакомившись там и со многими абхазцами, и со многими грузинами, я знал о деятельности Берии в бытность его на Кавказе, о том, каким влиянием он располагал там, на Кавказе, прежде всего в Грузии, и после того, как уехал в Москву, — знал обо всем этом намного больше других, не живших там людей. То тут, то там приходилось сталкиваться с воспоминаниями об исчезнувших семьях, о людях, погибших, выбитых из жизни в Грузии, среди партийных работников и среди интеллигенции — это было до того, как Берию перевели в Москву на роль человека, исправляющего ошибки Ежова.
Мои собеседники отнюдь не были болтливы, да и время не располагало к такой болтливости, но все-таки то одно, то другое у них прорывалось. И я постепенно составил себе довольно полное представление о том, что, прежде чем облагодетельствовать оставшихся в живых и выпускать их после Ежова из лагерей и тюрем, Берия выкосил Грузию почище, чем Ежов Россию, причем в каких-то подробностях рассказов о событиях тридцать шестого — тридцать седьмого и более ранних годов мелькало нечто страшное, связанное с местью и со сведением им личных счетов. Двое или трое из моих друзей абхазцев, очевидно, вполне доверяя мне, рассказывали мне ужасные вещи, связанные с произволом Берии в Абхазии, с гибелью там многих людей. Чему-то из этого верилось, чему-то не верилось, настолько диким это казалось тогда, в те годы, задолго до разбирательства дела Берии на пленуме ЦК, до процесса над ним и до XX съезда. Иногда не верилось или не до конца верилось в то, во что потом, несколько лет спустя, было бы странным не поверить с первых же слов. С этим уроженцем мингрельского села Мерхеули, расположенного всего в десятке километров от поселка Гульрипши, где я жил, было связано столько слухов, намеков в разговорах, вдруг прорывавшихся давних и не столь давних подробностей, что ощущение, что он человек не только страшный в прошлом, но и опасный в будущем, сложилось у меня довольно стойкое. И новость, которую принес мне Василий Петрович Московский, была сразу воспринята мною как некое, еще не до конца обдуманное, инстинктивное облегчение, как нечто избавлявшее нас от висевшей в воздухе опасности… Воспоминания о прямых разговорах, о намеках, полунамеках — все это прокручивалось в памяти, когда я заново читал ночью полосы газеты. Но это было только дополнением к первому чувству, как вскоре выяснилось, достаточно широко распространенному среди необозримой массы людей.