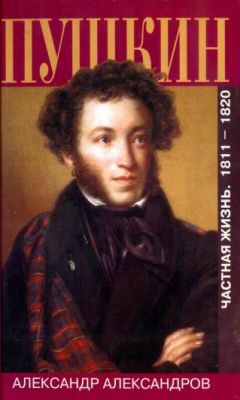Карамзин закончил рассказ и развел руками: мол, судите сами, гости дорогие.
И гости принялись судить. Ростопчин после войны двенадцатого года и сожжения Москвы был одной из главных тем аристократических гостиных.
— Граф Ростопчин складом ума чистый француз, хотя французов ненавидит и ругает на чистом французском языке. За остроумие его жаловала еще императрица Екатерина, — сказал Александр Иванович. — Надо признать, что и в этой истории есть остроумие…
— При императрице он был чуть ли не шут, — возразил ему другой собеседник.
— Положим, быть шутом и остроумным человеком — это разные вещи, и не стоит их путать, — это уже сказала княгиня Голицына. — Та же Екатерина Великая говорила о нем, что у молодого человека большой лоб, большие глаза и большой ум.
— Как бы то ни было, за ним навсегда останется слава Герострата! — возразили ей тут же.
В обществе помнили и часто рассказывали друг другу, когда после окончания войны двенадцатого года на обыкновенный бал Благородного собрания явилась княгиня Голицына в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. Кажется, многие тогда просто не поняли, почему так вырядилась княгиня, как не понимали всего русского. Это было в те времена, когда граф Федор Васильевич Ростопчин, известный своим патриотизмом и тем, что якобы сжег Москву, еще оставался главнокомандующим Москвы, но уже вызывал ненависть всех тех, кто потерял в сожженной Москве имущество. Всеобщий патриотизм и воодушевление двенадцатого года уже прошли, а горечь от потерянного состояния осталась. И главный виновник этого, как считали многие, все еще сидел в кресле главнокомандующего Москвы. Лишь в 1814 году, вернувшись из заграничного похода, Александр Павлович уволил его от должности, а в 1815-м граф Ростопчин, всеми презираемый, уехал в Париж к французам, которых до сих пор ненавидел и клеймил, и с тех пор не возвращался. Говорят, правда, он был во французских салонах нарасхват и там поначалу от славы поджигателя Москвы не отказывался, как он это делал на родине. Княгиня же при каждом удобном случае вставала на защиту графа, будучи одних с ним убеждений, признавая, что он сжег Москву, и доказывая, что поступил совершенно правильно.
— Мне писали, — сказал один из собеседников, — что в Париже про Ростопчина теперь в ходу такой каламбур: он сжег Москву, чтобы не видеть нас, мы сгораем от нетерпения видеть его.
— Милостивые государи и государыни, не кажется ли вам, что приписывать кому-то одному поджог Москвы дело неблагодарное? — начал один из гостей. — Помните, как во время войны говорили о том, что Наполеон поджег Москву, потом переметнулись на Ростопчина? Хотите я скажу вам, как все было на самом деле? Огромный город, в два дня оставленный всеми или почти всеми жителями без всякого присмотра. Кучка сволочи, которая есть во всяком народе в любых обстоятельствах, а в таких так тем более, кучка сволочи, оставшаяся в городе, чтобы хорошо поживиться на чужой счет. Грабеж, взломы, невольные и намеренные поджоги, чтобы скрыть следы воровства, — вот главная причина пожара Москвы. Мародеры сожгли Москву. Давайте смотреть правде в глаза. А не Наполеон, не Ростопчин!
— Я не согласна, вы хотите подвиг низвести до уровня быта! Подвиг Ростопчина останется в веках! — резко возразила княгиня Голицына.
Пушкин немедленно встал на сторону княгини Голицыной.
— Вы хотите отнять у нас поэзию! Что-то величественное было в поступке Ростопчина, который сжег Москву, чтобы она не досталась врагу! Он — не Герострат, не для своей славы он это сделал, а для славы духа русского! — искренне поддержал княгиню Пушкин и посмотрел на нее, и гордая красавица ответила ему благодарным взглядом. — Детьми мы плакали тогда о Москве и гордились ею, — продолжил Пушкин. — Москва пережила много пожаров, но лишь один навсегда останется в памяти народной.
— Во всяком случае, в моей памяти эта картина осталась навсегда, — тихо сказал Батюшков, но его, кажется, никто не услышал, тем более когда он прошептал, как молитву: — Да прилипнет язык мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду!
Разговор рассыпался вместе с кругом гостей. К Пушкину подошел Александр Иванович Тургенев и, слегка приобнимая, сказал:
— Поэзия есть поэзия. Но не надо путать ее с правдой, мой юный друг. Помнишь все подвиги народные, описанные в «Сыне Отечества»? Журнал, верно, выписывали в Лицее?
— Еще бы! — воскликнул Пушкин. — Мы зачитывались и подвигом русского Сцеволы, который отрубил себе руку…
— И о старостихе Василисе, которая перевязала голодных французов и привела их на веревке к начальству, тоже, наверное, читывали?
— Да, — обрадовался Пушкин. — Как мы радовались каждому такому случаю!
— Так вот, мой милый поэт, все эти анекдоты, а также про казака, который нагайкой трех французов победил, и многие другие ваш покорный слуга, Воейков да Греч придумали, не выходя из петербургских своих квартир, а Греч напечатал в «Сыне Отечества» для поднятия духа народного. Потом Теребенев гравировал эти анекдотцы, и разошлись они по всей необъятной матушке России… Народ, если и поднимался сам, то для того, чтобы пограбить, порой и своих…
Пушкин задумался.
— Я думаю, про старостиху Василису еще долго будут помнить, как и про других…
— Пусть думают, — усмехнулся Александр Иванович. — А старостиха Василиса была у нас в имении, где не ступала нога француза.
Стали звать к чаю. Пушкин, извинившись перед Тургеневым, поспешил оказаться возле княгини Голицыной, вблизи она оказалась еще прекрасней, чем издали. Разговор с Тургеневым почти не задел его сознания, поскольку он думал в этот момент только о княгине Голицыной. Он обратил внимание, что с другой стороны гостиной за ней все время наблюдает Батюшков, и догадался, что тот тоже влюблен в нее, но он видел его нерешительность и только посмеивался. Себя он считал вполне опытным ловеласом, совершенно не думая, что такая добыча может оказаться ему не по зубам. Хотя ко времени знакомства Пушкин уже знал всю ее подноготную: историю ее свадьбы и разъезда с мужем, единственной известной ее связи с князем Михаилом Долгоруковым и отказом мужа дать развод, смертью возлюбленного на войне в Швеции.
Княгиня много чем прославилась в гостиных, многие поступки ее не были поняты обществом, но тем не менее ей многое прощалось. Общество, которое собиралось у нее, было исключительно мужским, она не оттеняла его женскими образами, даже тусклыми, которыми другие дамы разбавляют атмосферу вокруг себя для сравнения, ей никто не был нужен, княгиня должна была царить одна. К тому же женское общество было ей просто неинтересно. Самым верным ее поклонником был теперь Михаил Орлов, знаменитый герой, подписавший капитуляцию Парижа, к которому Пушкин испытывал самые добрые дружеские чувства. Познакомился Орлов с княгиней еще в пятнадцатом году в Париже и с тех пор следовал за ней неизменно, когда ему позволяла служба. Но теперь он, к счастью, был в Киеве, и соперничество с двадцативосьмилетним генерал-майором не грозило Александру. Все, что он знал о княгине, влекло его, как мотылька на огонь. Он кружился мыслью вокруг нее даже во время разговоров с другими.