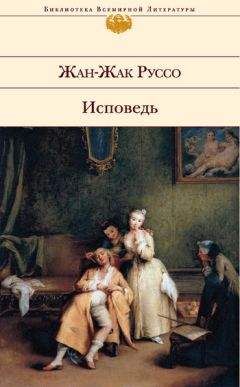Среди молодых актрис выделялись такие милые ingenues, как, например, Штрауке, но настоящий венский жанр женской игры был водевильный, в местной Posse. И тогда еще Галльмейер держала все то же амплуа венской субретки. И Гейстингер еще была царицей оперетки. И комики, как Блазель и его сверстники, продолжали смешить венцев в Posse и оперетке. Но весь этот комизм, когда его вкушаешь в большом количестве, очень скоро приедается. Он и теперь все такой же, с теми же «штуками» дикции, мимической игры, пения куплетов и выделывания смешных па.
Оперетка к той зиме обновилась музыкой Штрауса, который вошел в полное обладание своего таланта и сделался из бального композитора настоящим «maestro» для оперетки, стоящей даже на рубеже комической оперы. Такие его вещи, как «Летучая мышь» и «Цыганский барон», и рядом с вещами Оффенбаха представляют собою и бытовую и музыкальную ценность.
Старик Лаубе в тот сезон еще не был создателем нового драматического театра, а директорствовал в Лейпциге, куда удалился, поссорившись с придворным интендантством Бург-театра.
В Вене я во второй раз испытывал под конец тамошнего сезона то же чувство пресноты. Жизнь привольная, удовольствий всякого рода много, везде оживленная публика, но нерва, который поддерживал бы в вас высший интерес, — нет, потому что нет настоящей политической жизни, потому что не было и своей оригинальной литературы, и таких движений в интеллигенции и в рабочей массе, которые давали бы ноту столичной жизни.
Палата очень скоро приедалась. Политика Габсбургского дуализма представляла собою все то же упражнение на туго натянутом канате, выдающихся ораторов не было, интересных сходок и митингов еще менее. Братья славяне — из тех, которые льнут к русской церкви и самому ее <…>, при ближайшем знакомстве не вызывали особенных симпатий. И в результате получалось стоячее впечатление от столицы, живущей изо дня в день в свое удовольствие, где не нарождается и не разрабатывается ни один крупный вопрос культурного человечества.
Я побывал еще зимой и в Пеште, куда ездил в первый раз, захватив и там часть фашинга.
Тогда Венгрия только что вошла во вкус своей обособленности и вырабатывала приемы нации, которая желает играть в дуалистической империи первенствующую роль.
Город Пешт только еще стал обстраиваться красивыми зданиями, вроде того собрания, где давались балы и маскарады. Но я нашел все это сколком с венских увеселений только с прибавкою национального колорита, да и больше в том, как одеты кучера и лакеи.
Нужно было помириться и с тем, что названия улиц и площадей значились только по-мадьярски, без немецкого перевода.
И в отелях, и в ночных увеселительных местах вы находили еще большую вольность нравов, чем в Вене, особенно в отелях. Тогда еще было в обычае смотреть на женскую прислугу как на штат своего рода одалисок. Такую же распущенность нашел я в Пеште и в войну 1877 года, когда объезжал славянские страны.
Театры, и оперные и драматические, нашел я самые посредственные, отзывающиеся провинцией. Все это очень напоминало нашу провинцию в западном крае, но было низменнее того, что я нашел, например, в Варшаве год спустя, в самом начале 1871 года.
Когда время стало подходить к маю, надо было составлять новую программу переездов. Берлин, где я бывал только проездом, представлялся гораздо более интересным. В мае и июне там еще идет политическая жизнь в Палате, и как раз шла борьба между Бисмарком и оппозицией.
Мои русские — и зоолог У. и медик Б. — собирались также туда, и мы условливались провести там месяц-другой.
Возвращаться в Россию я еще не собирался, хотя уже и начал чувствовать тягу, какая овладевает вами после такого долгого скитания на чужбине.
Мои долговые дела находились все в том же status quo. Что можно было, я уплачивал из моего гонорара, но ликвидация по моему имению затягивалась и кончилась, как я говорил выше, тем, что вся моя земля пошла за бесценок и сверх уплаты залога выручилось всего каких-то три-четыре тысячи. Рассчитывать на прочную литературную работу в газетах (даже и на такую, как за границей) я не мог. Во мне засела слишком сильно любовь к писательскому делу, хотя оно же так жестоко и «подсидело меня» в матерьяльном смысле.
Определенного плана на следующий сезон 1870–1871 годов у меня не было, и я не помню, чтобы я решил еще в Вене, куда я поеду из Берлина на вторую половину лета. Лечиться на водах я еще тогда не сбирался, хотя катар желудка, нажитый в Париже, еще давал о себе знать от времени до времени.
Хотелось очень выработать план романа, хотя и было рискованно пускаться в долгий путь.
И если б события, уже не личного, а всемирного значения, не разразились так неожиданно, более чем вероятно, что я после Берлина поехал бы куда-нибудь в тихий уголок Швейцарии и там отдался бы работе беллетриста.
В Берлине прожил я ровно два месяца — май и июнь 1870 года.
Там нашел я моего товарища по Дерпту, Бакста, который все еще считал себя как бы на нелегальном положении из-за своих сношений с политическими эмигрантами, ездил даже в Эмс, где с Александром II жил тогда граф Шувалов, и имел с ним объяснение, которое он передавал в лицах.
Шувалов ловко допытывался от него, о чем, собственно, мечтают русские революционеры, и Бакст уверял его, что дальше конституции они в своих благих пожеланиях нейдут.
Вл. Бакст был, по-своему, единственный тип из всех мне на моем веку знакомых евреев.
Внешность его — большой горб, маленький рост, резкие семитические черты — все это говорило против него. Но он был то, что французы называют «обаятельный». Он умел еще в Дерпте настолько привлечь к себе, что я охотно пошел на его предложение — перевести с ним первый том тогда только что вышедшей немецкой «Физиологии» Дондерса. Моя доля работы была самая значительная, особенно в смысле русского языка и слога, которыми он тогда плохо владел. Как оказалось, он не совсем корректно поступил позднее, когда выпустил второе издание книги, сняв мое имя и не заплатив мне никакого дополнительного гонорара. Но я ему это простил и, встретившись в Берлине, никогда ему этого не напоминал.
Он тогда сбирался все приступать к докторскому экзамену, но, как всегда, был гораздо больше жизнелюб, чем ревностный докторант. У него был необычайный талант возни с людьми; он знакомился со всяким народом и делался сейчас нужным человеком кружка, давал советы, посредничал, оказывал всевозможные услуги. В этом, конечно, сказывалась одна из характерных черт семитической расы.
Сохранил он и большую слабость к женскому полу: вопреки своей внешности, считал себя привлекательным и тогда в Берлине жил с какой-то немочкой. Любил он и принимать участие в качестве друга и руководителя во всяком прожигании жизни по этой части, хотя к кутежу не имел склонности.