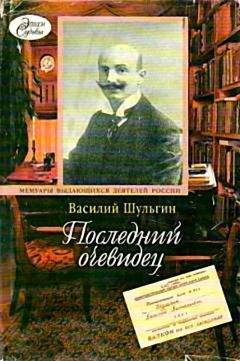Я открыл последнее отделение. Я увидел последнюю одалиску. Но она закричала раздирающим голосом:
— Вася! — и обвила руками мою шею.
Голые руки у нее были загорелые, как у цыганки, и на них золотые браслеты.
…И все исчезло, то есть я проснулся. Проснулся, подивился этому сну. Ведь несколько часов тому назад я видел и даже вел под руку четырнадцатилетнюю девочку, правда, дерзкую, но одетую, ни в коем случае не одалиску. Подивился — и заснул. Однако твердо запомнил этот яркий сон.
* * *
Это было, то есть снилось мне, в нашем киевском особнячке, в моей комнате…
Когда же это могло быть? Я уже, кажется, кончил университет, брат младше меня на пять лет, ему было девятнадцать. Девятнадцать лет ему когда было — когда мне было сколько? — двадцать четыре. Тысяча девятьсот второй год!
В тысяча девятьсот втором году, скажем.
Нет, это не было в девятьсот втором, в девятьсот втором я уже отбывал воинскую повинность. Значит, в тысяча девятьсот первом…
Прошло много лет. Примерно девятнадцать… Значит, был тысяча девятьсот двадцатый год, лето. Я был в Севастополе. Тогда в Севастополе была большая жилищная теснота, и мне дали место на корабле «Рион», двенадцать тысяч тонн… Он стоял в одной из бухт Севастополя на якорях. Чтобы попасть на него, надо было вызвать плот. Поэтому я подходил обыкновенно ночью и кричал в темноту:
— На «Рионе»!
Отвечали:
— Есть на «Рионе!»
— Подайте плот!
Ответ:
— Есть подать плот!
И начинала дребезжать цепь и плескать вода. Затем Рион… то есть плот… отправлялся обратно, к трапу на корабле. Я кричал с плота:
— Мичман Шульгин.
Ответ:
— Всходите!
Я подымался по трапу, дежурный офицер разрешал мне отыскивать свою кабину. Я шел через деки и всякие спардеки и по лесенке опускался в полный мрак и затем, считая ступеньки, попадал в свой коридор. Там, считая ручки кабин, в полной темноте находил свою кабину. На столике находил свечу, вставленную в бутылку, зажигал ее и при свете убеждался, что крысы съели мой хлеб начисто. Потом ложился на койку, где когда-то был бархат, а теперь грязный матрац. Тушил свет и засыпал, не обращая внимания на то, что крысы бегают по мне.
А они…
Но спал я все-таки чутко. И проснулся оттого, что услышал: кто-то трогает ручки дверей. Этот «кто-то» приближается, и я слышу женский голос. Она неуклонно подходит ближе, трогая дверные ручки, и я слышу, как она говорит:
— Василий Витальевич Шульгин?
Тут я вскочил и зажег свечу. И стоял на коленях на моем ложе. Дверь раскрылась, и вдруг женщина бросилась мне на шею с криком:
— Вася! — и охватила мою шею голыми коричневыми руками.
И на это темной коже блеснули золотые браслеты.
Это была Лена.
* * *
Она рыдала:
— Я приехала… из Одессы… мне сказали, что вы тут…
Я спросил ее:
— А Филя?
А кто такой Филя? Ее муж, а мой племянник.
Она зарыдала сильнее:
— Схватили… сидит…
Утешая ее, я сказал ей следующее:
— Я упросил Врангеля телеграфировать по беспроволочному телеграфу в Одессу — с предложением: «В Севастополе сидит видный большевик. Предлагаем мену на Могилевского». Телеграмма была получена, так как дали так называемую «расписку»… Но не ответили. Поэтому я собираюсь с Тендры (с острова Тендра, куда я поплыву через несколько дней) попытаться вернуться в Одессу, собрать человек двадцать, напасть на ЧК и освободить Филю.
План, конечно, был фантастический, но она успокоилась. Рыдала еще, но наконец заснула у меня в объятиях, прижавшись, как к единственному существу, который подал ей какую-то надежду.
Утром она проснулась и ушла, как пришла.
Я действительно попал на Тендру и пытался пробраться в Одессу. Но попал в яростный норд-ост, который швырнул меня на румынский берег. И с этого началось мое принудительное эмигрантство…
С Леной я увиделся снова уже в 1926 году, в Польше. Она приняла католичество и вышла замуж за поляка, который был ее давнишним поклонником…
Мой племянник Филипп погиб…
Наши севастопольские идиоты перед эвакуацией Севастополя расстреляли большевика, которого я предполагал поменять на Филиппа…
(Они должны были его вывезти… И расстреляли моего племянника…)
* * *
Вся эта трагическая история — это фон для моей мысли. Я хотел рассказать, как сон, который я видел в Киеве и запомнил, сбылся через девятнадцать лет…
Это, несомненно, сбывшийся сон, его нельзя не узнать. Однако обстановка как будто совершенно другая.
Во сне — длинный коридор публичного дома, где я ищу Лену. Наяву — длинный коридор корабля, где Лена ищет меня.
Однако раздирающий крик: «Вася!» в публичном доме такой же, как в трюме корабля «Рион»… И голые загорелые руки с золотыми браслетами те же в публичном доме… те же, что в каюте корабля «Рион»…
Вот и все.
Вывод: сон о публичном доме является вещим, ибо он сбылся в трюме корабля «Рион».
28 августа 1971 года
P. S. Лена стала кокаинисткой. Она вышла замуж за поляка, который был другом когда-то моего Филиппа и ее поклонником…
Ф. М. (из книги «1920») — Филипп Могилевский, талантливый скульптор, но не кончил академию… Он и брат мой женились на двух сестрах из этой совершенно выродившейся семьи… Они были очень красивые, но такие…
(Выродившиеся?..)
Что характерно для Государственной Думы третьего созыва? Вот что: большинство, занимавшее центральное положение, принуждено было бороться с левыми и правыми.
Бороться за что?
За мирную Эволюцию.
— Вперед, на легком тормозе, — говорил Петр Аркадьевич Столыпин.
Этот лозунг не подходил ни левым, ни правым.
* * *
Сначала о левых.
Почему они не хотели мирной Эволюции?
Потому, что хотели Революции, причем в этом смысле не признавали никаких тормозов.
Наоборот, они хотели все разрушить немедленно. Огнем и мечом! Под мечом разумелись вооруженные восстания, огонь же понимался буквально. Они стали жечь помещичьи усадьбы, немногочисленные культурные центры в России. Каков характер был этих поджогов, явствует из того, что графиня Софья Андреевна Толстая наняла диких осетин, чтобы охранять Ясную Поляну. Говорят, она ограничилась одним осетином. И что же, он охранил дом, где писался роман «Война и мир»? Охранил. Как же это могло случиться? А как случилось, что другой полуосетин властвовал над целой Россией? Имя ему Джугашвили, иначе Иосиф Виссарионович Сталин.