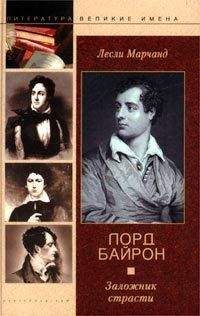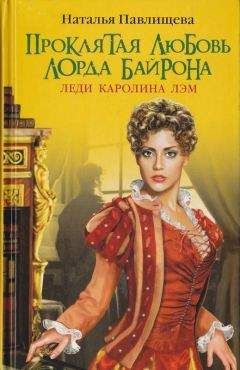Первый взгляд на Афины с поросшего соснами холма близ крепости Филы зажег Байрона интересом к современной Греции, бывшей наследницей Греции античной. «…Афинские равнины, Пентелекий, Гимет, Эгейское море и Акрополь предстали перед моим взором; на мой взгляд, зрелище даже более великолепное, чем Синтра…» В канун Рождества путешественники миновали оливковые рощи, пересекли Цефис, проехали под сводчатыми воротами и оказались в Афинах. Поскольку в городе не было гостиницы и постоялого двора, они сняли комнаты в большом доме миссис Тарсии Макри, вдовы грека, бывшего британского вице-консула. Хобхаус вспоминает, что их жилье «состояло из гостиной и двух спален, выходивших во двор, где росли пять-шесть лимонных деревьев, плодами с которых приправляли пилав…»[5]. На стол подавали три дочери вдовы Макри: Мариана, Катинка и Тереза, которым не было еще и пятнадцати лет. Байрон называл их «три грации».
Даже находиться рядом с Акрополем – ни с чем не сравнимое ощущение, хотя город узких кривых улочек никак не вязался с рассказами о его былой славе. В то время в Афинах проживало десять тысяч турок, греков и албанцев, ютившихся в тысяче с небольшим домах к западу и северу от Акрополя и окруженных стеной. Хотя в город часто приезжали путешественники с Запада, общее число европейских жителей не превышало семи-восьми семей.
Прежде всего англичане хотели увидеть Акрополь, но поездку пришлось отложить из-за необходимости отправить подарок Дисдару, подчиненному воеводы, или турецкому правителю города. Тем временем они осматривали храм Зевса Олимпийского. Уже опытные путешественники, к началу 1810 года Байрон и Хобхаус каждый день следовали определенному ритуалу. Они выезжали верхом из городских ворот и направлялись либо на запад, к Элевсину, откуда можно было разглядеть вдалеке Саламин и Эгину, либо к монастырю Катерины на горе Гимет. На следующий день они отправлялись на север к Пентелекию, горе, откуда древние греки брали мрамор для огромных колонн и статуй Акрополя. Больше всего Байрон любил приезжать к похожей на драгоценный камень гавани Мунихия[6], где, по легенде, на скале располагалась могила Фемистокла.
Через три недели они повидали большую часть достопримечательностей в Афинах и окрестностях города. Настроение Байрона в этих поездках можно определить по тому, что он позднее говорил Трелони, принимая во внимание склонность последнего к живописным преувеличениям: «Путешествуя по Греции, мы с Хобхаусом ссорились каждый день… Он без ума от легенд, топографии, древних надписей… Он с компасом и картой слоняется у подножия Пинда, Парнаса и Парна, чтобы определить местонахождение какого-нибудь древнего храма или города. Я же на своем муле взбираюсь вверх. Эти горы занимали мое воображение с раннего детства: сосны, орлы, ястребы и совы – потомки тех, что видели Фемистокл и Александр, и они, подобно людям, не стали хуже… Я смотрел на звезды и размышлял, ничего не записывал и не задавал вопросов».
Судя по сентиментальному тону «Чайльд Гарольда», Байрон ощущал одновременно душевный подъем и угнетенность при виде колонн и развалин некогда могучих и прекрасных храмов. Но по зрелом размышлении он стал глядеть на остатки золотого века Греции скорее с грустью, нежели с восторгом. Вторая песнь «Чайльд Гарольда» начинается с посвящения «царственной Афине»:
Увы, Афина, нет твоей державы!
Как в шуме жизни промелькнувший сон,
Они ушли – мужи высокой славы,
Те первые, кому среди племен
Венец бессмертья миром присужден.
(
Перевод В. Левика)
О разрушенных колоннах Байрон говорит: «А ныне что? Где слезы сожалений? Нет часовых над ложем гордой тени, меж воинов не встать полубогам».
Несмотря на это, во время первого осмотра Акрополя у Байрона появилось новое отношение к древним развалинам и самим грекам. Из-за формальностей только 8 января вместе с Хобхаусом и Джованни Баттистой Лусьери, неаполитанским художником, нанятым лордом Элджином, который, будучи британским послом в Константинополе (Стамбуле), получил разрешение на зарисовки и отправку в Англию статуй и фризов, Байрон поднялся на всемирно известный холм. Первый корабль с реликвиями отправился в 1802 году, но только в 1807 году коллекция была открыта для широкой публики в музее на Парк-Лейн. Байрон отразил общественное мнение в «Английских бардах и шотландских обозревателях», где презрительно отозвался об «изувеченных обломках культуры», собранных Элджином. Но теперь, увидев их в Парфеноне и Эрехтеоне, он уже не называл их жалкими камнями и «изувеченными обломками», а почитал великолепными сокровищами греческой цивилизации. Байрон стал пылким защитником мраморных статуй и горько высмеял Элджина за вандализм в «Чайльд Гарольде»:
Но кто же, кто к святилищу Афины
Последним руку жадную простер?
Кто расхищал бесценные руины,
Как самый злой и самый низкий вор?
(
Перевод В. Левика)
Чтобы ярче изобразить «бесчинства расхитителей», Байрон обратился к легенде о готе Аларихе, который, испытывая ужас при виде призраков Минервы и Ахилла, пощадил городские сокровища и памятники.
Хобхаус, с большим спокойствием взиравший на происходящее, доказывал, что сохранение памятников культуры в Лондоне «послужит появлению великих архитекторов и скульпторов», однако Байрон едко высмеял это утверждение. Он говорил, что вечно будет бороться с «грабежом Афин ради обучения англичан скульптуре, потому что они так же способны к ней, как египтяне к катанию на коньках…». Эмоциональный отклик Байрона на поведение Элджина получил признание в кругах сторонников греческой революции. Несомненно, это послужило возвышению Байрона в глазах греков и иностранцев, горящих желанием видеть Грецию свободной. Кажется, что он предвидел время, когда греки обретут независимость и возьмутся за охрану своих памятников[7].
Поездка на мыс Колонн, или Сонной, высокую скалу на оконечности Аттики, вдающуюся в Эгейское море, навечно запечатлелась в памяти Байрона. Они ехали верхом вдоль Гимета с Хобхаусом и слугой-албанцем Василием (тогда вдоль Аттического побережья не было хорошей дороги, по которой сейчас туристы добираются из Афин до мыса за час). Они прибыли на место 23 января, на следующий день после того, как Байрону исполнилось двадцать два года, и увидели белые дорические колонны древнего храма Посейдона (тогда считалось, что это храм Минервы), четко вырисовывавшиеся на фоне темно-синих волн, испещренных зелеными точками скалистых островков. Это были «острова Греции»:
Я с высоты сунийских скал
Смотрю один в морскую даль;
Я только морю завещал
Мою великую печаль…
(
Перевод В. Левика)
Следующей целью путешественников были равнины Марафона, где в 490 году до нашей эры афиняне разгромили персов. Пока Хобхаус детально изучал поле боя, Байрон воссоздавал в своем воображении картину битвы, которая нашла отражение в строках, разжегших национальную гордость греков и укрепивших самосознание эллинов и которые стали одними из самых известных строк Байрона:
Холмы глядят на Марафон,
А Марафон – в туман морской,
И снится мне прекрасный сон —
Свобода Греции родной.
(
Перевод В. Левика)
За это время у Байрона создалось более благоприятное впечатление о современных греках, чем у его товарищей и большинства других европейцев, с которыми он встречался в Афинах. Когда французский консул М. Фовел и коммерсант М. Рок, который, по словам Хобхауса, жил за счет того, что «одалживал деньги под двадцать – тридцать процентов греческим купцам и занимался переправкой нефти», пришли к Байрону, М. Рок выразил мнение, обычное для всех европейцев в Греции. Он сказал, что афиняне «такие же канальи, как во времена Фемистокла!». Произнес он это с «замечательной серьезностью», записал в пометках к «Чайльд Гарольду» Байрон, иронично добавляя: «Древние изгнали Фемистокла, современники обманывают месье Рока – вот каково отношение к великим людям!»
Байрон неплохо сошелся и с греками и с европейцами в маленьком обществе Афин, где зимой было столько забав. Часто устраивали танцы и праздники в доме Макри, где возрастающий интерес Байрона к самой младшей из «трех граций» Терезе («Ей 12 лет, но она уже вполне взрослая», – писал Хобхаус) позволил ему заполнить душевную пустоту, образовавшуюся после разлуки с Констанцией Спенсер Смит: «Волшебство утеряно, очарования больше нет».
Когда Байрон решил оставить веселые Афины, душу его опять охватила тоска. Он не отказался от намерения посетить Константинополь, а оттуда доехать до Персии и Индии. Он получил разрешение на путешествие от Роберта Адара, британского посла в турецкой столице. Когда английский корвет «Пилад» предложил доставить Байрона в Смирну, он ухватился за эту возможность и через день отправился в путь вместе с Хобхаусом. Расставание с Терезой было горьким. Возможно, накануне отъезда он написал или начал известные строчки: